БИБЛИОТЕКА БАШКИРСКОГО РОМАНА
”АГИДЕЛЬ”
Сагит Агиш (Сагит Ишму хаметович Агишев) (1905- 1973) — видный башкирский писатель, лауреат премии им. Салавата Юлаева, автор романа «Фундамент», повестей «Махмутов», «Парни», «Первые уроки», «Земляки», многих рассказов и новелл.
АГИШ ФУНДАМЕНТ РОМАН Авторизованный перевод с башкирского И. Юзовского Башкирское книжное издательство Уфа*1978 С (башк.) А 24 Редакционная коллегия: Каримов М. С., Мирзагитов А. М., Исангулов Ф. А., Гирфанов А. Ш., Вахитов А. X.
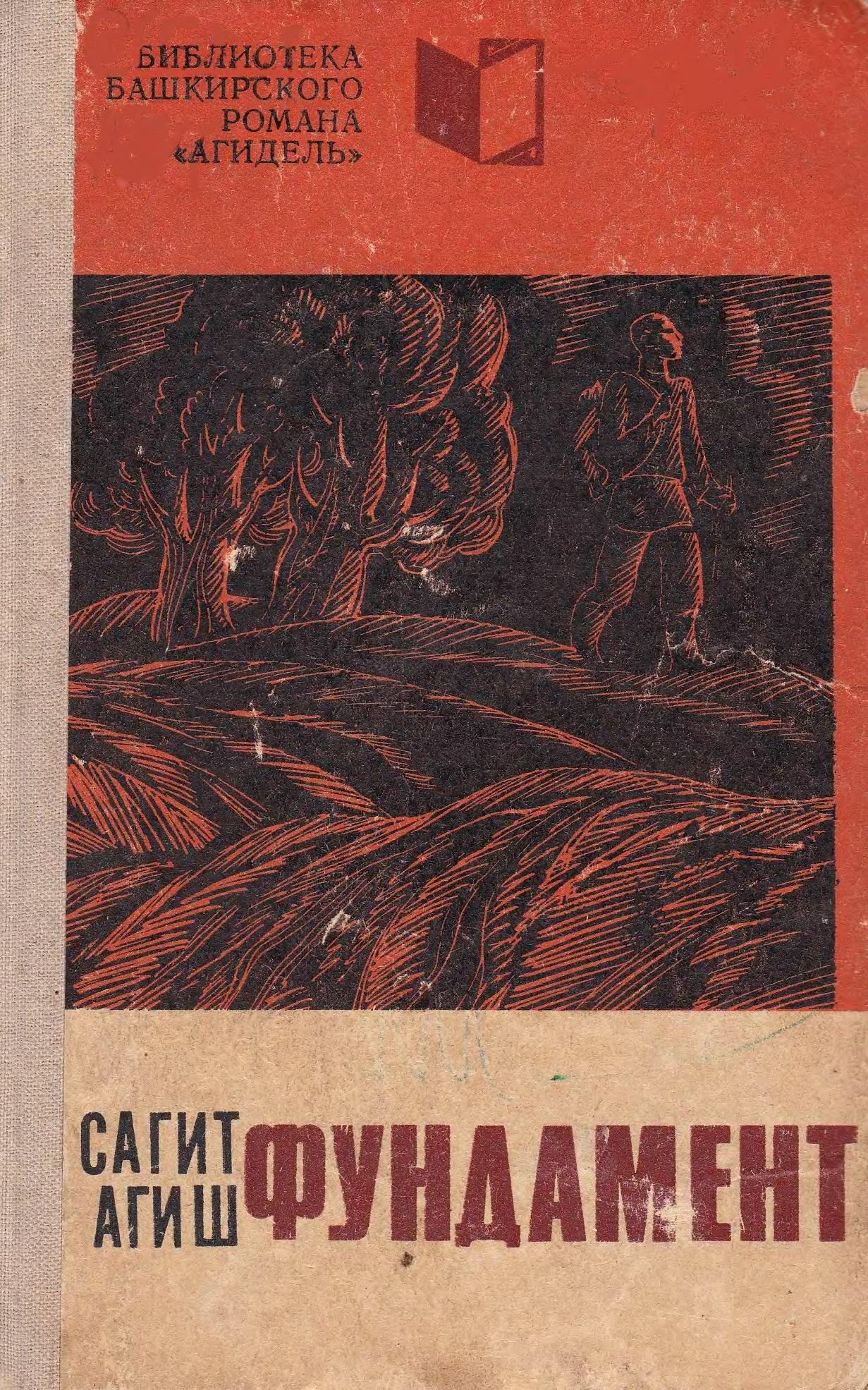
Печатается по изданию:
С. Агиш. Фундамент.
Советский писатель, Москва, 1952 Агиш С. И.
А 24 Фундамент. Роман. Оформление В. Дианова. Башкирское книжное издательство, Уфа, 1978.
416 с., с портр.
В романе "Фундамент* писатель нарисовал широкую картину того, как в башкирской деревне 30-х годов в условиях классовой борьбы новые общественные отношения восторжествовали над пережитками старого быта, как воздвигался фундамент социализма, как формировались из комсомольской молодежи кадры национальной советской интеллигенции.
70302-73 А MI21 (031--78 “78 © Башкирское книжное издательство, Уфа, 1978ЧАСТЬ
ПЕВВАЯ 1 В общежитии педтехникума, как всегда, шумно. В одном углу стройный юноша декламирует стихотворение да таким пронзительным голосом, что хочешь не хочешь, а вынужден слушать В другом кто-то запевает протяжную песню, ожидая, что к нему присоединятся, но так как никто его не поддерживает, он переходит на частушку и умолкает. У окна сидит худенький черноглазый юноша и что-то рисует на плотном листе бумаги.
Вбегают двое юношей в высоких бумажных колпаках на голове. Они становятся друг перед другом и начинают быстро-быстро говорить на каком-то тарабарском языке, напоминающем крики дикой утки. Вчера они были в цирке, видели клоунов и теперь хотят передать свои впечатления самым наглядным образом. Высокий парень выходит на середину комнаты с кураем 1 в руке и, склонив голову набок, с усердием принимается выдувать веселую мелодию. На ее звуки из женского общежития прибегают девушки, и начинается пляска. Даже занятый делом художник не может усидеть. Он откладывает в сторону свой незаконченный рисунок и тоже пускается в пляс. Не слышно даже звонка, пока кто-то не закричал, просунув голову в дверь: «Ужинать!» В мгновение ока комната пустеет, один только музыкант с кураем в руках недоуменно оглядывается по сторонам.
Наступает тишина. Она так непривычна в общежитии, что кажется, будто портреты, нарисованные черноглазым художником, грустно смотрят со стен, как бы скучая по веселым голосам. Пыль, поднятая ногами танцующих, еще не осела и в лучах заходящего весеннего солнца похожа на дым.
Шум и крик теперь перешли в столовую. Учащиеся, выстроившись в очередь, получают из окошка кухни тарелки с дымящимся супом.
— Лей погуще, Абдрахман, не жадничай! — теребят они дежурного по кухне.
Какой-то паренек шутливо грозится:
— Смотри, малай, скоро и я буду дежурить, тогда рассчитаемся!
— Когда еще ты будешь дежурить! — говорит пареньку следующий за ним в очереди. — Ведь ты на «Ю», а я на «Д», — смекни, кому Абдрахман нальет погуще?
Получив еду, ребята расходятся по местам и, быстро опорожнив тарелку, уходят со словами: «Еще одно дело сделано! Теперь можно и погулять!» Во дворе перед двухэтажным зданием техникума находится бассейн, откуда когда-то бил фонтан. Сейчас в талой воде бассейна дети служащих пускают кораблики, сделанные из бумаги и щепок. Обширный парк, окружающий техникум, усажен тополями и акацией. Беседки, разбросанные в саду, обветшали от времени, но ребята любят собираться там. Некоторые даже оставили на скамейках надписи, выразенные перочинным ножом. «Я, такой-то и такой-то, такого-то числа, месяца и года на сем месте сидел, а затем удалился».
Прежде чем садиться за уроки, ребята выходят погулять. Как раз в то время, когда они выбежали во двор, появился красноармеец с дорожным мешком в руке. Его тотчас окружила толпа любопытных.
— Агай *, кого тебе надо? — посыпались вопросы.
Красноармеец улыбнулся и спросил:
— Ягфарова Салиха кто знает?
И сразу, словно мячик, запрыгало:
— Салих! Салих!
— Салих Ягфаров!
— Салих, сюда!
Не прошло минуты, как прибежал сам Салих. Ребята не давали ему поздороваться и дергали со всех сторон.
— Смотри, не забудь поделиться гостинцами!
1 Агай — дядя (обращение к старшему).
Они имели в виду дорожный мешок, содержимое которого, по их расчетам, предназначалось Салиху.
— Мне в первую очередь! Я первый нашел тебя.
— А я первый сказал!
Красноармеец решил успокоить расшумевшуюся молодежь.
— Гостинцев я не принес, родные. Уж как-нибудь в другой раз, — сказал он и, словно извиняясь, развел руками.
Ребята еще немного потолкались, рассматривая посетителя, и разошлись.
— Здравствуйте, Бикбулат-агай, — протянул, наконец, руку Салих. — Уж не в деревню ли собрались?
Бикбулат — односельчанин Салиха, сын старого кузнеца Халькеса. Он с прошлого года служил в Уфе. Почти каждый выходной день Салих навещал земляка в казарме и всегда уходил оттуда обласканный. Красноармейцы садились в кружок, разговаривали о деревенских делах, кормили Салиха гречневой кашей с мясом и вкусным мягким хлебом, поили сладким ягодным чаем, иной раз на прощанье совали кусок жирной рыбы. Салих пробовал отказываться — неловко было: ведь ему шестнадцать лет, а его все еще считают ребенком. Но красноармейцы и слышать ничего не хотели. «Ты же учишься, тебе и есть надо побольше, — говорили они. — Науки лучше в голову пойдут».
Сам Бикбулат еще ни разу не приходил в техникум, и его неожиданное появление удивило Салиха. Они молча прошли в сад и сели на скамейку.
Солнце уже зашло, на землю опустился холодный туман. Деревья сонливо шумели молодой, только что распустившейся листвой. Маленькая электрическая лампочка на высоком столбе то вспыхивала, то снова гасла, словно собираясь с силами, чтобы загореться.
— Ты давно получил письмо из дому? — спросил, наконец, Бикбулат.
— Последнее — в начале марта. Вначале беспокоился, но потом решил, что почта могла задержаться из-за разлива реки.
— Видишь ли, — помолчав немного, сказал Бикбулат, — я только что из деревни. Съездил туда на неделю по увольнительной.
— Как из деревни?! — воскликнул Салих. — Что ж вы молчите? Рассказывайте: как отец, мать?
Но Бикбулат ничего не ответил, лишь взглянул на него выразительно. Салих забеспокоился:
— Бикбулат-агай! Не случилось ли чего? Бикбулат молча обнял его за плечи.
— Ты ведь знаешь, что у отца твоего было больное сердце. Мужайся, Салих. Твой отец умер. На собрании разволновался. Его нарочно довели до припадка, он еле дошел до дому и к вечеру умер.
Салиху показалось, что его ударили тяжелым бревном по голове, что скамья, на которой он сидел, провалилась в пропасть, а лампочки сорвались со столбов, мелькнули и исчезли, как падающие звезды. Слезы неудержимо полились из его глаз. Бикбулату больно было смотреть на своего молодого друга; он ругал себя за то, что не сумел осторожнее сообщить печальную весть.
— Не плачь, — сказал он как мог теплее. — Что теперь поделаешь?
И подумал: «Да что я! Пускай выплачется: мальчик ведь он еще, — может, легче станет».
Бикбулат поднялся, ему пора было уходить.
Он протянул Салиху письмо без конверта, истрепанное по углам и перевязанное ниткой.
— Это письмо от твоего старшего брата Фарука. Я читал его, и, сказать правду, не понравилось оно мне. Нехороший человек твой агай.
Салих продолжал сидеть на скамейке, слезы, текли из его глаз. Он даже не заметил, как ушел Бикбулат: так и сидел, держа письмо в руке. Затем машинально направился к зданию техникума и там, услышав шум и увидев людей, взял себя в руки. Он поднялся по лестнице и, остановившись на площадке, развернул письмо.
Написанное четким, аккуратным почерком, оно гласило:
«Брат мой Салих!
Шлю тысячу приветов. Тяжело сообщать тебе весть, печальную для нас обоих. В конце марта наш отец покинул нас. Не убивайся- такова участь каждого, раньше или позже. Смерти не избежишь, говорят древние старики. Правда, в своей жизни наш отец не видел счастья, да узнаем счастье мы, его дети.
Теперь я живу в кантоне, в деревне Ахмер, служу секретарем кантонного исполкома. На похороны отца приезжал в Аккуян. Можешь не беспокоиться, отец был похоронен, как подобает в таких случаях, — все расходы я взял на себя. А ты подумай о матери — она заболела. Сам знаешь, она мне мачеха, а ты ее родной сын, родной и единственный. Она осталась теперь с двумя дочерьми, родными твоими сестрами.
Делить в усадьбе нам с тобой нечего. После смерти отца остались корова и отличный жеребенок. Жеребенка я оставил тебе, а себе в память об отце взял корову. Раздел уже утвержден и оформлен. Забота о матери и сестрах теперь ложится на тебя. Ты у них сейчас единственная опора. Придется расстаться с учебой, — не до техникумов тут. Будет неплохо, если ты вернешься пораньше и успеешь посеять немного проса или еще чего-нибудь. Я, как секретарь исполкома, постараюсь быть тебе полезным, чем сумею.
Ну, до свидания. Парень ты неглупый, к тому же, если не ошибаюсь, тебе скоро шестнадцать. Пора стать самостоятельным. Привет от Нафисэ.
Твой старший брат Фарук.
1927 год, апрель».
В течение какого-нибудь часа веселый подросток Салих превратился в строгого юношу Ягфарова. Нет, никто больше не увидит его слез — не к лицу они ему. Ведь он глава семьи, единственная опора для матери и сестер. Теперь надо скорее вернуться домой, посеять просо, заготовить кизяк, дрова, сено, отремонтировать дом, хлев — дела не ждут!
Мимо Салиха проходили и пробегали его товарищи, но никто и не подозревал, какое несчастье стряслось с ним. Даже маленькая синеглазая Корбанбикә, хохотушка и проказница, к которой тянулось сердце Салиха, и та не заметила перемены в нем. Она натянула ему на ухо кепку, шутливо толкнула в спину и со смехом убежала в сад, уверенная, что Салих сейчас же погонится за ней. Но Салих не двинулся с места. Проходившая мимо девушка заметила ему:
— У тебя такое лицо, словно ты уронил в воду топор. Не Корбанбикә ли тебя обидела? — лукаво взглянула она на него и пошла дальше.
Кому поведать свое горе? Корбанбикә? Но разве этой веселой девочке доступна печаль? Салих вздохнул и пошел в зал. Там царило обычное оживление. Высокий юноша с жаром рассказывал о чем-то в кружке любопытных. На подоконнике сидел Искандер и, болтая ногами, учил стихотворение. Салих прошел в свой класс. Разбившись на группы, ребята готовили уроки. Один стоял перед картой и, подражая учителю, с жаром объяснял слушателям урок географии. На задней парте круглолицая, с коротко остриженными волосами Зайтуна записывала что-то в альбом, сшитый из разноцветной бумаги.
Заметив Салиха, она позвала его.
— Салих, попробуй-ка выговори слово «Ньюфаундленд». Никак не возьмешь его на язык.
В другое время Салих ответил бы ей какой-нибудь шуткой, но на этот раз без слов повернул обратно. Оживление вокруг только усиливало его тоску. Он вернулся в зал — там ребята уже репетировали пьесу.
Салих вышел во двор. Темно. Со стороны станции слышны гудки паровозов. По улице торопливой походкой идут прохожие. Издалека доносится цоканье лошадиных копыт. Возле ворот старик-сторож, поставив между колен заржавленную берданку, задумчиво курит табак и беспрерывно покашливает.
«Город! — думал Салих. — Техникум, товарищи, учителя, старик сторож — все это город. И все это остается здесь. Мне же надо ехать в деревню, сеять просо, заниматься хозяйством...» Салих вспомнил, как отец провожал его, и снова заплакал.
... Как обычно, зазвенел первый звонок, и учащиеся разбежались по классам. Один Салих не торопился. Он стоял у дверей канцелярии, поджидая директора; в руке он держал заявление об уходе из техникума.
Всем было обидно, что Салих бросает учебу, — и педагогам и ученикам. Когда учитель, делая перекличку в начале урока, доходил до буквы «Я» и спрашивал Ягфарова, дежурный в этот день отвечал: «Ягфаров больше не будет учиться. У него умер отец, и он возвращается в деревню».
Больше всех огорчилась Мария Николаевна, преподавательница русского языка.
— Да ведь он, можно сказать, совсем еще ребенок! За ним самим смотреть надо. Какой из него хозяин? — И, посмотрев на парту, где обычно сидел Салих, она печально вздохнула.
Выросшей в городе, в зажиточной семье, Марии Николаевне казалось странным, что так рано можно начинать жизнь. Но большинство учащихся находило это естественным.
— Что же делать? Придется ему и покре- стьянствовать. Отец умер, значит теперь его черед семью содержать.
А бойкий Рамазан выпалил:
— И женится скоро.
— Женится? — всплеснула руками Мария Николаевна.
Она живо представила себе Салиха, его тонкую фигуру, черные, как смородина, пытливые глаза, его смущенную улыбку... «И этот малыш обзаведется семьей?» К Салиху она относилась с особой теплотой, быть может, потому, что это был первый башкирский мальчик, которого она увидела. Только в прошлом году Мария Николаевна приехала в город учительствовать в педтехникуме. Дело было летом, во время каникул, и не раз она приставала к директору с вопросом:
— Когда же приедут ребята?
Наконец, время подошло к первому сентября, и директор повел Марию Николаевну в общежитие.
— Сегодня могу исполнить ваше желание: познакомить с вашими будущими питомцами.
В общежитии никого не было, кроме одного черноглазого мальчика, который, сидя на койке, уплетал ярко-красный помидор. Это был Салих.
Салих плохо владел русским языком, даже хуже чем его товарищи по техникуму, но в течение года он сделал такие успехи, что Мария Николаевна искренне гордилась им.
Когда зазвенел звонок, она снова вспомнила о Салихе.
— Жаль, жаль расставаться с ним, — вздохнула она, поднимаясь. — Ведь у него, кажется, способности к живописи.
— Первый во всем техникуме! Настоящий художник! — посыпались восклицания.
Корбанбикә, сохранявшая все время молчание, взглянула на рисунки Салиха, развешанные по стенам, и глаза ее наполнились слезами.
Директор долго отговаривал Салиха:
— Ведь ты же хотел стать художником, и, судя по твоим рисункам, у тебя есть талант. Тебя ждет прекрасное будущее, и ты не должен отказываться от него. Я обещаю послать тебя после окончания техникума в художественную школу в Москву. А пока ты кончишь, семью твою могли бы поддержать родственники.
— Нет у нас таких родственников, — ответил Салих.
И скрепя сердцем, он твердо заявил директору, что остаться не может и должен ехать домой.
Пришлось уступить. Директор вернул Салиху бумагу в резолюцией: «Просьбу удовлетворить» и приказал выдать полумесячную стипендию и трехдневную порцию хлеба.
Салих сдал завхозу одеяло, подушку и простыни, вернул в учком краски, тушь, линейки и кисточки, которые были у него, как у художника стенной газеты, и стал укладываться.
Вернувшись с уроков, ребята застали Салиха уныло сидящим на голых досках кровати. У них сжалось сердце, только сейчас они почувствовали по-настоящему, что расстаются с ним. Нигмат, который зимой подрался с Салихом, изобразившим его в стенгазете со вздернутым носом, сказал ему:
— Салих! Мы поссорились тогда из-за пустяков! Прости и не уезжай с обидой на меня.
Весельчак Искандер, желая рассеять грустное настроение, произнес речь, изукрашенную арабскими словами, в подражание некоторым учителям:
— Как говорит Ахняф Кабири-агай: каковы бы ни были наши раздоры, дело не доходило до кулаков. О! Мы не допускали, чтобы наши почтенные носы обагрялись кровью! Как говорит все тот же достоуважаемый Ахняф Кабири-агай: пройдут годы, и настанет день, когда мы покинем стены родного училища и будем сеять в родных местах семена науки и просвещения. И тогда жди нас к себе, Салих!
В другое время Салих тоже нашелся бы сказать что-нибудь веселое, но, утомленный бесонной ночью и грустными думами о смерти отца, о своем будущем, он промолчал. Надр- шин, школьный поэт и артист, встряхнув длинными черными волосами, падавшими до самых плеч, произнес:
— Я комсомольский поэт и не пишу какие- то там презренные серо-буро-малиновые кисло-сладкие стихи. Нет! Лучшему своему другу я оставлю стихи, которые сварились в котле моего воображения вчера ровно в одиннадцать часов вечера:
У сильного воля — бурав из стали!
Землю им можно насквозь просверлить!
Шагай же смелее, преграды сметая, Если ты хочешь недаром прожить.
Чего ты боишься?
Дороги тернистой?
Промахов?
Срывов?
Ошибок в пути?
Но вместе с народом нельзя ошибиться.
Вместе с народом всегда победишь!.
Салих поднялся с места, закинул за спину узелок и, показав на свои рисунки, сказал:
— Пусть останутся на память обо мне.
Салиха провожали всем техникумом, — ведь он уезжал не на обычные каникулы, а навсегда.
— На станцию? — спросил Искандер.
— Нет, пешком. В нашу сторону нет железной дороги.
— А далеко?
— Сто верст.
Ребята переглянулись: нелегко ему будет шагать по весеннему бездорожью.
Пришли провожать и девушки. Сердца у них были помягче, чем у парней, им труднее было остановить непрошенные слезы.
Корбанбикә, легкая, быстрая, обычно бывала впереди своих подруг. Сейчас же стояла 1 Все стихи, за исключением отрывка из стихотворения Г. Тукая, даются в переводе В. Корнилова, позади всех, закусив губу, чтоб не расплакаться.
В этом году уезжал уже второй человек, но того, первого, никто не жалел. Здоровенный детина с черными усами, он занимался тем, что преспокойно в течение четырех месяцев воровал у своих товарищей одежду, продукты, деньги. С ним расстались охотно. А вот отъезд Салиха — это совсем другое дело. Расставаться с ним тяжело.
У фонтана Надршин поднялся на возвышение и, привычно тряхнув кудрями, снова произнес речь.
— Товарищи! Я вот что скажу вам всем и тебе, друг Салих. Мы, комсомольцы, не верим в судьбу. Мы ведь сами строим свою жизнь. Комсомольское солнце не только в нашем техникуме, оно и в деревне горит — и с тем же жаром. Салих показал себя как активный комсомолец, прилежный ученик, хороший товарищ, способный художник. Он и в деревне сумеет проявить себя.
— Поэт правильно говорит! — раздались голоса.
Пять-шесть друзей Салиха провожали его до самой окраины города.
Напутствуемый добрыми словами, Салих пустился в дорогу. Он шел и думал о товарищах, которые остались в городе, жалел, что не смог поговорить перед уходом с Корбанбикә.
А Корбанбикә весь этот день была печальна. Она пыталась скрыть свою грусть, но это ей плохо удавалось, подруги украдкой следили за ней и сочувственно вздыхали. Между ней и Салихом еще не было того, что принято называть любовью, но зерно чувства, запавшее в их сердца, уже дало свой росток.
2 Салих приближался к родной деревне. Он поднялся на возвышенность, которую называли Тополиным склоном, и, опершись грудью на свою палку, долго глядел на расстилавшиеся перед ним знакомые места. Вон белеет вдали его родная деревня Аккуян, что значит «Белый заяц». Кажется, рукой подать, а добираться надо еще добрый час.
По правую руку от Тополиного склона вьется река Тук. Она тихо течет среди берегов, заросших мелким кудрявым ивняком. В одних местах вода ее кажется синего цвета, а в других — сверкает, как ртуть. Близ реки виднеется безыменное озеро, отделенное от реки чуть заметным перешейком. Обычно небольшое, оно раскинулось сейчас на удивление: куда ни кинешь взгляд — вода; видно, много снега выпало в этом году. Над рекой поднимаются знакомые кручи — Кызыл яр и Кара яр — Красный и Черный яр, не раз Салих с мальчишками прыгал отсюда в воду. Но больше всего поразила Салиха (этого он раньше как-то не замечал) огромная, без конца и края, невспаханная земля — пахотные участки выделялись на ней, как заплатки на гигантском зеленом ковре.
Салих огляделся. Свистели суслики, вылезшие из своих нор. Жаворонки, замерев в воздухе и беспрерывно трепыхая крыльями, распевали с детства знакомую песню.
Салих помнил, что в этих местах было много дикого лука. Только сейчас он, пожалуй, уже начал затвердевать. А скоро появится щавель — его здесь удивительно много. Бывало жуешь себе такую травку — получше иного лакомства. Хорошо бы сейчас свернуть немного в сторону и поискать лука, да в деревню надо попасть до наступления темноты, и хочется поскорее увидеть мать и сестренок. Как они там без него? По старшей, черноволосой Тазкире, Салих соскучился, пожалуй, меньше, чем по младшей — своей любимице Васиме. У нее были потешные каштановые кудряшки и круглые, как два шарика, глаза. Она не умела спокойно ходить, а всегда бегала со всех ног. В своем мешке Салих нес ей пряничного петушка и цветные карандаши.
«Как-то встретят в деревне?» — думал он, продолжая свой путь. Не по своей охоте пришлось ему бросить учебу. В техникуме позаботились о Салихе — новая зеленая гимнастерка с отложным воротником, широкие черные брюки из хорошего сукна, на ногах новые ботинки. А в дорожном мешке лежит пара чистого белья и поясок с блестящей пряжкой, подаренный Надршином.
Вот знакомая речка, и мост знакомый. Каждый год его устилали поверх бревен мелким ивняком и в этом году тоже устлали. Салих спустился к реке, умылся, почистился, погляделся в воду, как в зеркало, каков он из себя, все ли в порядке. Теперь уж недалеко до деревни, можно дойти и без остановок.
Сзади послышался легкий бег лошади и однообразный шум колес. Салих отошел на обочину дороги, чтобы пропустить тарантас. Вскоре появилась красивая зеленая дуга, из которой высовывалась голова лошади с белым пятном на лбу. Человек, сидевший на козлах, казался знакомым.
— Ташбулат-агай! — окликнул его Салих.
Человек в тарантасе натянул вожжи, придержал коня и, взглянув на прохожего, воскликнул:
— Салих! Ты ли это? Домой возвращаешься? Ну, садись, подвезу.
Салих не заставил себя упрашивать и быстро залез в кузов.
Ташбулат больше походил на грузина, чем на башкира, — у него был горбатый нос и закрученные кверху густые черные усы. На нем было нечто вроде пиджака, перешитого из старой солдатской шинели, штаны красного цвета в черную полоску с толстыми заплатами на коленях. И полотняная рубаха была та же, какую Салих помнит с тех пор, как знает Ташбулата. Медное кольцо на среднем пальце также было знакомо Салиху.
— Откуда у тебя, Ташбулат-агай, такой славный конь? И тарантас барский... Совсем как у купца Шангарая! — удивлялся Салих.
Ташбулат только руками замахал:
— Что ты! Откуда у меня такой конь и тарантас?! Это все Шангарая! Его старшая, замужняя дочка приезжала из Куайры навестить отца. Сегодня отвез ее обратно и, видишь, возвращаюсь домой. Добрый конь у этого купца, будь он проклят. Подумай только: выехал я сегодня после обеда, а к ужину буду дома. Летит, как десять джинов. Я еще придерживаю его — а то, чего доброго, старик накинется на меня, что я лошадь загнал. Вот везет же людям. Деньги сами лезут в его карманы, а скот — в хлев.
Ташбулат помолчал и спросил:
— А ты, значит, домой? Узнал о смерти отца?
— Да. Писали мне еще, что и мать болеет.
— Болеет, бедняжка, болеет. С самой весны не показывается на улице. После того как избили ее баи в отместку за твоего отца, никак не поправится. Совсем зачахла. В последний раз видел я ее на похоронах. Постарела... А ведь ей рано стареть-то. Сверстницы ее еще работают вовсю... А все из-за отца. Он молодец, за нашу власть дрался. У Хакима был как правая рука. Сломали эту руку. А что в деревне делается, сам увидишь, — баи сопротивляются, не хотят отступать перед советской властью, а беднота хочет устроить жизнь по-другому.
— А ты как?
— Да что я! Стараюсь наладить свою жизнь: быось-бьюсь, да так ничего и не получается. Все дело в том, дружок, что не везет мне. А раз человеку не везет, то тут уж ни закон, ни что другое ему не поможет. Я вот на двух баев тружусь — и на Шангарая работаю, и на Шарапа-бая, — но сколько живу, еще ни разу новых штанов не надевал. Судьба!
Они помолчали.
— А не знаешь ли, Ташбулат-агай, как мои сестры? — спросил, наконец, Салих.
— А что им делается? Живут. Хаким помощь им оказал через сельсовет. Как ни говори, раз живой человек, он, брат, копошится. Теперь и ты вернулся — им и легче станет. Ты ведь умеешь водить карандашом по бумаге, а это для наших мест большое дело. Вон кооператив открыли, может тебя туда и поставят. Не пропадешь.
Уже опускались сумерки, когда они въехали в деревню. Дома казались серыми. Редко попадались прохожие; промчалась только ватага ребятишек, играющих в лошадки, да старуха Латифа вышла за ворота и, приставив ладонь к глазам, долго глядела вслед и бормотала: «Кого это везет к себе Ташбулат?» Салих вошел в ворота, сколоченные из жердей. Его встретила тишина. Двор зарос зеленой травой, как в поле, — некому ее было вытоптать, нет скотины.
Пройдя сени, Салих бесшумно открыл двери в горницу и стал на пороге. Никто не заметил его прихода. Темно. В очаге слабо горит кизяк. Над котлом поднимается пар. Кто-то лежит на нарах, укрывшись одеялом, — должно быть, мать. Васима сидит у нее в ногах и смотрит в окно. За печкой возится Тазкира, гремя дровами. Салих тихо кашлянул. Тазкира выглянула из-за печки.
— Ой! — закричала она. — Брат!
Васима прямо с нар бросилась в объятия Салиха, он еле удержался на ногах. Мать открыла глаза и вскрикнула: «Дитя мое!» — протянув к нему свои исхудалые, пожелтевшие руки.
3 На следующий день вечером зашел Хасан. Он был старше Салиха года на три, но они с малых лет росли вместе и считались сверстниками. Им было что вспомнить.
Хасан подошел и протянул Салиху руку. Прежде никто не здоровался за руку. Обычно протягивали друг другу обе руки и слегка прикасались ими.
Внешне Хасан мало изменился. Та же медленная, тяжелая походка, те же крепкие плечи, ладно охваченные черной тужуркой, по швам которой кое-где белели нитки. Разве только лицо его стало темнее от загара и чуть осунулось.
— Как здоровье матери? — спросил Хасан.
— Все лежит.
После такого печального ответа оба помолчали. Наконец, Хасан сказал:
— Пойдем прогуляемся немного. А спать будем на крыше, как прежде, ладно?
Спать на крыше лапаса укрывшись тулупом, когда в лицо веет прохладный ночной ветерок, — огромное удовольствие. В техникуме Салих часто вспоминал, как они вместе с Хасаном забирались на крышу, и теперь ему было приятно, что Хасан напомнил о прошлом, когда был жив отец. Салих еще не встречался с друзьями детства, все больше со взрослыми. Вчера заходил сам Хаким, секретарь аккуянской партийной ячейки, он говорил о том, что надо оживить работу среди комсомольцев, а под конец сказал полушутливо:
— Может, еще не прошло время твоих игр, да только ничего не поделаешь, сынок, придется пока позабыть о них. Дни у нас теперь горячие, сам знаешь...
1 Лапас сарай с плоской крышей, Салих толком не разобрал, что хотел этим сказать Хаким. Конечно, прошло то время, когда он бегал с ребятишками по улицам, изображая лошадку. А время, когда принято встречаться с девушками на вечеринках и ходить на гулянья, еще не пришло. А может, это и не к лицу Салиху, приехавшему из большого города и повидавшему мир.
Друзья молча шли по притихшей улице. Тяжелые облака нависли над деревней, — по- видимому, к ночи будет дождь. Слышно было, как в глубине дворов мерно жуют жвачку коровы. Из одного дома доносились призывные звуки гармони, но друзья не зашли туда.
— Ты даже не знаешь, как я рад твоему приезду! — первый заговорил Хасан. — Ведь я секретарь комсомольской ячейки. И, правду сказать, плохо понимаю, как надо работать. Зимой мы собирали вечорки, а летом нужно что-то другое. Из волостного комитета приходит бумага за бумагой. Требуют от нас дела. Да и совестно сидеть сложа руки: как почитаешь газеты — диву даешься, чего только не делается в нашей стране! А у нас в деревне комсомольцев никак не расшевелишь. Вот я и рассчитываю на твою помощь.
— А разве Хаким-агай не помогает?
Хасан вздохнул.
— Помогает, конечно, словом, советом, только ведь дело-то делать мы должны сами.
— Это верно, — согласился Салих.
Беседу их прервал Айытбай — он вышел из своего дома в накинутой на плечи белой шубе и в ката на босу ногу. Айытбай много лет работал объездчиком у помещика Холодков- ского; после того, как народ сжег барскую усадьбу, а самого помещика прогнал, Айыт- бай вернулся в деревню.
Семья его жила в глиняной избенке, а из скота только и было у них, что коза. Айытбай привел с собой корову, а немного спустя появилась у него и лошадь. Постройки же он не стал возводить. Вбил в землю как попало несколько толстых столбов, так что они торчали в разные стороны, покрыл верх — и получилось что-то вроде навеса, под которым лошадь и корова могли укрыться от дождя. Народ в шутку называл его избенку и кривой хлев «хутором Айытбайского», но он не обижался, смеялся вместе с другими. О том, на что он купил корову и лошадь, рассказывают со слов самого Айытбая, будто он нашел спрятанные помещиком в погребе деньги. Один только кузнец Халькес не особенно верит этому рассказу. «Эх, вы, — говорит он, — разинули рот перед старой тряпкой! Да чего тут удивляться! Кто он такой, Айытбай? Если надо украсть — украдет, ограбить — ограбит, а если понадобится — и человека зарежет. Он из таких, что за день богачом станет, а до ночи и дух испустит».
Айытбай подошел к друзьям и обнял их за плечи.
— Называть вас малаями уже не решусь. Взглянуть на вас — настоящие джигиты! Так вот, приглашаю вас завтра к себе. Будем заготовлять кизяк. Приходите, девушки тоже будут. Самогон есть, мельник приготовил. Мир перевернем мы с вами, ребята!
Юноши переглянулись.
— Не знаю... — неопределенно проговорил Хасан.
Салих удивился: он ожидал, что Хасан решительно откажется.
Но Айытбай не дал им времени на раздумье:
— И слышать ничего не хочу. Завтра к утреннему чаю жду вас к себе. А ты, Салих, своего жеребенка не отпускай в табун. Он будет месить навоз. Если успеем, и тебе заодно кизяк замесим. Народ, правда, говорит, что рано кизяк готовить. А я думаю — не рано. Ведь кизяк не колос, не надо ждать, пока он нальется.
Салих, видя нерешительность Хасана, заколебался.
— Завтра видно будет, — сказал он уклончиво.
— Нечего раздумывать. Завтра с утра ко мне! — решительно объявил Айытбай.
— Я приду, — ответил Хасан.
Салих промолчал.
Несмотря на надвигающийся дождь, друзья не раздумали спать на крыше. Набросали туда еще соломы, покрыли самотканным ковром, вынесли из дома подушки и шубу. Когда они легли, над их головами низко-низко пролетела сова. Друзья молчали. Слышно было, как заревел прогнанный с соседнего двора общественный бык и, роя копытами землю, умчался куда-то на край деревни. Долго еще доносилось его обиженное мычание. Наконец, все стихло. Месяц, выбравшись из облаков, плыл на свободе. Звезды, перемигиваясь, поглядывали с неба па них.
— Что ж, так и пойдем к Айытбаю? — спросил Салих. Он давно собирался задать этот вопрос.
— Отчего же не пойти? — пожал плечами Хасан. — Будут девушки, повеселимся, подурачимся!...
— Ты слышал, — прервал его Салих, — говорят, будто купец Шангарай сватается к дочери Айытбая Миньямал?
Хасан ответил не сразу, а когда заговорил, голос его показался Салиху хриплым.
— Шангарай-то посватается, этому я не удивляюсь, а вот то, что Айытбай готов исполнить его желание, это более странно.
— Что это за отец, который способен отдать старику родную дочь? Недаром, видно, говорят, что человек он черствый, без сердца.
Хасан проговорил, словно думая о своем:
— Она сказала: «Я все равно не пойду за Шангарая. Или убегу, или брошусь в воду!» — Правда, сказала?
— Правда.
— Она тебе самому это сказала?
— Да, мне самому.
Друзья замолчали.
Среди книг, прочитанных Салихом за последний год, были книги, в которых рассказывались подобные истории. А одну точно такую же драму он видел на сцене городского театра; он даже прятал тогда от соседей выступившие на глазах слезы. Сейчас ему казалось, что Миньямал похожа на ту девушку в театре — такая же умная и красивая. Еще когда он увидел ее после приезда, он обратил внимание на ее глаза: они смотрели задумчиво и печально, а лицо ее по сравнению с прошлым годом заметно осунулось и побледнело. Салих невольно сопоставил это с тем, что и Хасан сильно осунулся, и сейчас, когда зашла речь о Минь- ямал, он почему-то замолчал, а до этого говорил о девушке голосом, который, казалось, исходил из самой глубины сердца. Салих поду* мал: «Да не любит ли он ее? Как, например, я люблю Корбанбикә...» Тут Салих вспомнил оставшуюся в Уфе девушку и невольно покраснел. Ведь мысль о любви к ней прежде никогда не приходила ему в голову. Да и не ошибается ли он? Ведь он ни разу и слова ей не сказал, которое принято считать любовным. Скорее, наоборот, дразнил ее перед ребятами. Все это так, конечно. Но почему-то сейчас ему никого так не хочется видеть из городских друзей, как ее.
Эх! Что пользы думать о ней! Ведь все равно он ее не увидит больше. Хотел написать ей письмо, да не решился. Если уж писать, так всем писать, а не ей одной. Через два года они окончат техникум, разъедутся кто куда. Разве только один Искандер сдержит свое обещание и приедет сюда, чтобы, как он сам выразился, «сеять научные знания».
Так думал Салих, лежа рядом с Хасаном на крыше родного сарая. Очень хотелось ему спросить приятеля, любит ли он Миньямал, да постеснялся. Ведь если бы его самого спросили, любит ли он Корбанбикә, он не признался бы ни за что в жизни. Кто знает, может быть Хасан, который был старше его, сказал бы правду.
«А не из-за Миньямал ли согласился Хасан пойти завтра к Айытбаю?» — подумал вдруг Салих. Утром оба приятеля были на дворе Айыт- бая, где уже собралось немало народу, преимущественно молодежи. Салих привел своего жеребенка на поводу, а Хасан прискакал верхом на лошади, впряженной в телегу, — место плетенки на телеге занимала бочка.
Навозная масса, из которой делают кизяк, еще не была готова, но девушки уже пришли с формовочными досками и в платьях, какие похуже. Они шумной толпой стояли в стороне.
Разрыли гору навоза и разбросали его по кругу. Перегоревший навоз бил в ноздри аммиачным запахом, обжигал босые ноги, но работа шла живо. Ездовые на телегах с гиком погнали лошадей за водой к реке. Звонкий грохот пустых бочек оглашал воздух. В навоз опрокинули несколько бочек с водой и пустили лошадей и жеребят его утаптывать.
Салих, высоко засучив штаны, зашел на середину и громким свистом стал погонять лошадей. Он с трудом вытаскивал ноги из вязкой массы, лошади теснили его, наступали на ноги, и Салих еле удерживался, чтобы не вскрикнуть: не дай бог услышат — сразу поднимут на смех.
Известно, что на такой работе только и ждут случая, чтобы подшутить над ближним. На грех, Салих вырядился как на праздник: надел белоснежную рубаху с отложным воротником, черные брюки. Навозные комья и брызги попадали ему в лицо и на одежду, но он делал вид, что не замечает их. Стоило ему с досадой взглянуть на испачканный костюм, как окружающие тотчас перехватывали его взгляд, — и вот посыпалось:
— Каково, Салих? Навоз топтать — не книгу читать!
— Старайся! Хлеб вкуснее покажется!
— Так его! Пусть не отвыкает от крестьянской работы!
Хорошо, что наступил перерыв. Салиха мутило, нехотя прихлебывал он полдневный чай. Кружилась голова. Чего он боялся — это свалиться, выйти из строя. Сраму тогда не оберешься. Кто поверит, что он в самом деле заболел, а кто и не поверит. Но в обоих случаях скажут! «Какой из него хозяин!» После чая Хасан предложил Салиху:
— Ты, Салих, вози воду, а я стану на твое место.
Салих покраснел от обиды и отказался, но Хасан настоял на своем.
Воду возить было одно удовольствие! Стоишь себе на телеге, с гиком, криком перегоняешь других возчиков — бочки гудят, ведра гремят! А там залезешь в воду по колено, наполнишь бочки, побрызгаешься с ребятами — и во весь дух обратно!
Хасан лучше Салиха управлялся с делом; даже непокорные жеребята слушались его, не было случая, чтобы хвостом задели, не то чтобы на ногу наступили. Он успевал даже переброситься шуткой с товарищами.
Когда навозная масса была готова, девушки, подоткнув подолы, разложили на зеленой траве формовочные доски и принялись за дело.
Салих заметил среди девушек Тазкиру и даже маленькую Васиму. — Как мать? — спросил он.
— Лежит все, — ответили они.
К закату солнца работа была закончена. Хозяин, довольный результатами, хлопотал по дому, готовя угощение. Парни и девушки гурьбой отправились к реке купаться. Ребята выбрали место поглубже, ныряли и барахтались, оглашая воздух смехом и криками. Девушки же спустились пониже, к узкой части реки, — там сначала выскребли травой до желтизны формовочные доски, а потом и сами искупались. Усталости как не бывало. Выкупавшись, все отправились по домам — переодеться для вечернего пиршества.
— Живее возвращайтесь, не задерживайтесь! — крикнул им вдогонку Айытбай.
Вернувшись домой, Салих подошел к матери. Она лежала в прежнем положении. В последние дни она не стонала и не жаловалась на боль, но подбородок ее заострился, как-то вытянувшись вверх, и вся она стала тоньше и меньше.
— Вернулся, сынок?
— Вернулся, мама. Сейчас пойдем ужинать.
— Идите, родные, идите!
Салих переоделся. Подпоясался ремнем с блестящей пряжкой, подарком Надршина, — он в деревне еще ни разу его не надевал, — в карман сунул чистый носовой платок.
Гостей рассадили двумя группами — мужчин в доме, а женщин в сенях. Айытбай осторожно, чтобы не расплескать, внес полны0! кумган самогона и обратился к Ташбулату:
— Ташбулат, будь же ты виночерпием.
Ташбулат охотно взялся за это дело, а Айытбай, глядя на Хасана и Салиха, словно оправдываясь перед ними, заметил:
— Я и Хакима приглашал, да он почему- то не пришел.
— Так он тебе и явится! — пробурчал Салих себе под нос.
Ташбулат между тем наливал самогон. Налитая чаша самогона пошла по кругу, каждый отпивал глоток и передавал чашу соседу. Когда круговая дошла до Хасана и Салиха, они отказались пить. Ташбулат с укоризной взглянул на них. Он был уже немного навеселе, так как, приступая к своим обязанностям, рассудил, что прежде, чем потчевать других, надо самому узнать, с чем имеешь дело, и хлебнул изрядную порцию самогону. Результат дал себя тут же знать, и Ташбулат, ни разу не сбившись с тона, спел старинную песню:
Деньги дай, и ты получишь
Пестроногих коней лучших.
Хозяин п гости накинулись на Хасана с Салихом:
— Вы что, дети муллы, что ли? Почему не пьете?
— Грех отказываться от угощения!
— Выпить полезно для здоровья.
— А мельник, он знает, злодей, как самогон гнать!
Веселый шум стоял за столом; даже на женской половине, где до сих пор царила тишина, раздавались смех и пение. Под влиянием общего веселья и уговоров оба друга опрокинули по чашке самогона. Салиха даже подмывало спеть песенку, которую он выучил в городе, но не нашлось никого, кто бы сказал ему: «Спой-ка!» Хасан поднялся с места, сказал Салиху, что пойдет проветриться, и тихонько вышел.
Среди сидящих за столом Салих был самый младший, но к нему обращались как к взрослому, бывалому человеку.
Ташбулат поднес ему свою чашку самогона. Салих отказался.
— Ты хоть пригуби в честь моей души! — умолял Ташбулат.
Остальные тоже начали упрашивать. Тогда Салих взял в руки чашку и запел песню, слышанную им в техникуме. За столом наступила тишина. Здесь ни разу не слыхали такой песни, и пел-то он ее как-то особенно, «по-го- родскому». На женской половине открыли двери, чтобы лучше расслышать, и какая-то женщина стала на пороге. Салих не смутился, наоборот, воодушевился и продолжал петь громче и увереннее. Он услышал, как женщина сказала:
— Бедняжка!
«Почему бедняжка?» — мелькнуло в голове Салиха. Потому ли, что у него недавно умер отец и тяжело больна мать? Или потому, что он сидит не со сверстниками, с которыми ему было бы веселее, а со взрослыми? А может быть, просто потому, что его друг Хасан не захотел сидеть с ним рядом и куда-то ушел?
Салих встал из-за стола и начал пробираться к выходу. Голова у него, немного кру- 34жилась. В сенях его остановила красавица Зульхиза.
— Родной мой, выпей кружку из рук ен- гэ — сказала она таким ласковым голосом, что Салих, не говоря ни слова, залпом выпил всю кружку.
Во дворе было ветрено. Начинало светать. Черновато-серые ивы в глубоком молчании окружали дом. Салих задумался.
Зачем он вернулся в деревню? Для того, чтобы слушать эти пьяные крики? Ему тошно от них.
Салих сел на катильку — восьмигранный белый камень, служащий для молотьбы хлеба. Он полной грудью вдохнул в себя свежий утренний воздух. На душе стало спокойнее. Вдруг из-за сарая до него донеслись приглушенные голоса.
Девичий голос говорил с укором:
— Тебе хорошо! Ты парень. Никто тебя не неволит.
Мужской голос отвечал:
— А тебя?
— Зачем ты спрашиваешь? Сам хорошо знаешь. Меня отдают старику, которого я ненавижу.
— А ты не иди.
— Меня и слушать-то не станут. Посмей я пойти против отца — он убьет меня.
— Тогда беги!
— Куда? Разве я знаю дорогу? Меня волк в поле разорвет.
— Пожалуйся Хакиму-агаю.
Девушка печально и тихо рассмеялась.
1 Енгэ — уважительно — тетя.
— Волк послушается Хакима-агая и пощадит меня.
Двери дома с шумом распахнулись, и показавшийся на пороге Айытбай пьяным голосом закричал:
— Эй! Хасан! Салих! Куда вы запропастились?
— Идем! — быстро откликнулся Салих, и Айытбай, хлопнув дверью, вернулся в дом.
Шепот за сараем прекратился.
Салих поднялся с камня, бросил взгляд в сторону сарая и направился к дому. Не успел он дойти до дверей, как услышал сзади легкие шаги; кто-то дернул его за кепку и, свернув ее набок, пробежал мимо. Это была дочь Айытбая Миньямал. Салих вспомнил Корбанбикә — ведь однажды она точно так же подшутила над ним!
Вслед за Салихом в дом вернулся Хасан. Встав посередине избы, он громко обратился к музыканту:
— А ну, друг, сыграй-ка что-нибудь повеселее!
Музыкант продул головку курая и заиграл веселую мелодию.
Хасан вначале топтался на месте, как раненая птица, неуверенно поднимающая крылья, силясь взлететь, и вдруг, лихо топнув ногой, ринулся в бурную пляску. С каждой долей секунды танец Хасана становился все быстрее, а сам он — все неистовее. Он выкрикивал в такт пляске: «Ну как? Вот так! Еще раз! Вот пляшу! Э-эх пляшу! И-их пляшу!» — щелкал пальцами и вскидывал голову, как резвый конь.
Гости повскакали с мест. — Еще жару! — кричали они.
— Можно жару! — отвечал Хасан, крутясь в бешеной пляске.
5 Только успели Хасан с Салихом войти в сельсовет, куда вызвал их Хаким, как разразилась гроза. Молния слепящим огнем осветила дома, берега реки, поля и далекий лес. Загрохотал гром — будто промчалась телега с гигантской пустой бочкой.
Хаким сидел за столом, изукрашенным вырезанными ножиком инициалами досужих посетителей. Он кивнул вошедшим головой, чтобы они подождали, и снова углубился в бумаги. Хасан и Салих сели на табуретки, которые зашатались на своих слабых ножках, издавая при этом плачущие звуки.
На улице лил дождь. Ветер бросал дождевые струи в окна то с одной, то с другой стороны. Через незамазанные щели окошек мелкие брызги дождя попадали в комнату. В окно было видно, как ребятишки, засучив штаны, бегали посередине улицы, где уже несся поток. Промокнув в мгновение до нитки, они прятались где-нибудь под навесом и стояли там, гордые своим геройством, стуча зубами от холода.
Хаким, перебирая бумаги, как бы невзначай спросил:
— Ну, как? Силен самогон у Айытбая?
Салих промолчал. Хасан, мрачно усмехнувшись, опустил голову. Наступило молчание, слышны были только однообразные звуки дождевых капель, падающих с потолка на самую середину пола.
— А мясо краденого барана? — снова сказал Хаким. — Очень оно показалось вам вкусным? Хотя пьяный человек разве разбирает, что он ест?
Хасан поднял голову и буркнул сквозь зубы:
— Мы не были пьяными.
— Вон как! Вы, оказывается, стойкие!
Хаким поднялся из-за стола, прошелся по комнате и остановился у окна.
— Я надеялся, — начал он, — что Салих, вернувшись в деревню, поможет Хасану. Только не в таком деле. Думал, наладят они работу среди молодежи, используя опыт городских комсомольцев. А что получилось?
— Нас позвали на помогу. От помоги не принято отказываться, — заметил Хасан.
— Помога помоге рознь, — возразил Хаким. — Эх, ребята, ребята! Вот, скажем, комсомольцы засеяли ленинскую десятину. Здесь помога кстати — можно собрать ребят на прополку сорняков, на уборку урожая. Помога — великое дело! Сам Ленин в помоге участвовал, на собственных плечах бревна носил. Есть и другая помога! Может, завтра вас купец Шангарай позовет, послезавтра кулак Шарап поманит — вы и пойдете? Ну, Хасан, что ты на это скажешь?
Хасан молчал, глядя на улицу. Взгляд его упал на дом Шангарая, — окрашенная в зеленую краску крыша блестела, вымытая дождем. Хасан мрачно усмехнулся и снова опустил голову.
— Ну, а ты, Салих, зачем туда пошел?
Хасан, не поднимая головы, проговорил:
— Салих пошел вместе со мной.
— Понятно! -живо откликнулся Хаким. — Кто помоложе, следует за тем, кто постарше. Добрый путь указал комсомольский секретарь!
Эти слова больше всего задели Хасана.
Покраснев, он сказал:
— Да ведь Айытбай не лишенец.
— Он не лишенец, но вор и конокрад. И потому он правая рука лишенцев, кулаков. Айытбаю тюрьмы не избежать. Он чужой нам. А ты должен следить за собою, чтобы не ходить одной ногой здесь, другой там. Таким манером и не заметишь, как зайдешь в чужую сторону. Весь мир разделился на два лагеря, и ты должен твердо знать, в каком находишься и с кем идешь в одном строю. Салих еще этого не понимает, а тебе давно пора знать. А Салих — что он? Он слушается! Кликнет его завтра старик Шарап, скажет: «Давай-ка сунем головешку в подвал кооператива!» — так он, может, послушается — школьник же, его учили послушанию. А покойный отец его не таким был. Нет, не таким был старый Яг- фаров.
Хасан не выдержал. Он вскочил с места, подошел к Хакиму, в упор взглянул на него, но сказать ничего не смог.
— Говори, говори! — сказал ему Хаким. — Стоя легче говорить.
Хасан без единого звука выскочил на улицу. Салих остался сидеть. Ему было обидно за Хасана. Бедняга, он ведь не мог признаться, что у него на душе и почему он пошел к Айытбаю!
— Мы с твоим отцом были большими друзьями, — сказал Хаким Салиху, проводив взглядом убегавшего Хасана, и голос его стал мягче. — Бывало за полночь просиживали, все разговаривали. Много планов строили на будущее. А вот, кстати, твой старший брат Фарук не в отца пошел. Непонятно, что он за человек. Все стороной ходит. Куда его тянет? Пока, видно, к одному — закусить получше. В нашей деревне когда бывает, еще скромно себя ведет, а в других местах прямо во двор к баям заезжает, принимает от них угощение, песенкам их подпевает. С прежней своей женой ни с того, ни с сего разошелся и взял дочь Тухфата-муллы. А этот Тухфат исподтишка народ против большевиков подговаривает.
Приехал как-то Фарук сюда, документ привез величиной с полотенце. Потребовал созвать собрание, с докладом выступил. Слова говорил сладкие, а корень языка ядовит. «Башкирский кулак, говорит, совсем не то, что русский кулак, а муллу, говорит, нельзя равнять с попом». Вон куда загнул. Вспомнил я тут, как еще па фронте мусульманские офицеры тоже вроде него хотели нас сбить с толку, а сами были заодно с русскими офицерами. Мы же, солдатские депутаты, общий язык нашли, хотя среди нас были и русские, и башкиры, и татары. Не нравится мне твой агай.
Помолчав, Хаким спросил:
— А ты, Салих, каков?
— Я — комсомолец.
Эти слова Салих произнес твердо, от всего сердца. — Почему же ты, комсомолец, пошел к Айытбаю?
Салих доверительно прикоснулся к руке Хакима.
— Хаким-агай! Сказать одну тайну?
— Тайну? — усмехнулся Хаким. — Ну, говори.
— Я сам еще толком не понимаю, в чем тут дело. Но я точно знаю, что Хасан терпеть не может Айытбая. И, кажется мне, случилось так потому, что он любит его дочь Миньямал.
— Да и твой брат любит, наверное, не Тух- фата-муллу, а его дочь Нафисэ?
— Хоть Фарук и мой брат, но я его мало знаю. А за Хасана ручаюсь. Он хороший комсомолец.
Хаким подошел к Салиху, опустил на его плечи свои большие, тяжелые руки, и Салих, иззябший от дождя, почувствовал себя совсем маленьким.
— Как мать?
— Все так же.
— Надо к доктору свезти.
— Нет лошади.
— Найдем.
— Уж не знаю, Хаким-агай, что и делать: мать сохнет прямо на глазах.
Глаза Салиха наполнились слезами, и он с благодарностью взглянул на Хакима.
— Вылечим, сделаем все, что в наших силах. Скажи, ты познакомился с учителем? — перевел разговор на другое Хаким.
— Не успел еще, — ответил Салих.
— Человек он неплохой, — задумчиво проговорил Хаким, — и голова у него хорошая.
Только кажется мне, что сердце у него еще маленькое.
Салих хотел спросить, что Хаким думает про его сердце, но не решился.
Когда он вышел на улицу, дождь еще продолжал лить. Дождевые струи были похожи на натянутые струны.
Чтобы укрыться от дождя, Салих забежал в кузницу. Там старик Халькес возился с железными полосами, скрепляя их раскаленным докрасна болтом.
Лицо его, изрытое глубокими морщинами и обросшее редкой бородой, было спокойно. Он, казалось, не слышал раскатов грома, и его не тревожил ливень; глаза его словно говорили: «Мне что? Мой конь не стоит на улице!» Сквозь прорехи длинной рваной рубахи выглядывало тело, такое же морщинистое, как его лицо. Каждый раз, когда он раздувал мехи, на него сыпались искры, но он не обращал на это внимания, будто не чувствовал их.
— Как поживаете, Халькес-бабай? — спросил Салих, перешагнув порог кузницы.
— А где твое «салям-алейкум»? Корова съела? А? Или тот, кто не ходит на «намаз», не умеет и приветствовать, как подобает? Я, сынок, здоров, здоров. Зачем пожаловал?
— Просто так, Халькес-бабай!
— Ну, в таком случае поработай.
И Халькес, не вставая с места, вытащил из груды железного лома старое, дырявое ведро и протянул его Салиху.
— На! Держи с обоих краев. И как можно крепче.
1 Намаз — молитва.
Салих взял ведро и стал держать его, как велел старик.
Кузнец между тем вытащил из раскаленных углей горевший красным цветом болт и принялся скреплять железные полосы. Ловко орудуя клещами, он не переставал говорить и ни разу не взглянул на Салиха.
— А дождь все идет, — покачал головой Халькес. — Как бы не размыло плотину.
— Может случиться.
— То-то же! А на прошлой неделе во время дождя, когда я работал в кузне, прислал за мной муэдзин. «Хали-мулла, говорит, побойся бога: гроза, а ты кузню открыл». — «А что может случиться?» — спрашиваю. А он мне: «Громом ее поразит». — «Значит, и меня поразит, — отвечаю. — Если поразит, то моя единственная коза поступит в пользу муллы, как фидия *. А на могильную милостыню я курицу как раз ращу, ее тебе и дадут».
— И что муэдзин? — спросил, рассмеявшись, Салих.
— А что ему остается делать? Ругается — да все учеными словами. «Ты, говорит, такой- сякой — и скряга, и озорник, и мерзавец. На намаз не ходишь, грешишь».
— Видно, Халимулла-бабай, не в дружбе вы с муллой и муэдзином?
— А кто когда видел, чтобы кузнец с муллой дружил? Тот мулле друг, у кого полно вокруг! А у меня, кроме единственной козы да бесхвостой курицы, ничего и нету. Да и вы — как вас там зовут, «молодой союз», кажет1 Фидия — пожертвование, даваемое родственниками покойного из его имущества.
ся? — вроде меня. Слышал я, если не врут мои уши, не очень-то вы муллу жалуете. А?
— Вроде того!
— Держитесь, ребята, раз так. Я-то, видишь, привык к огню, мне адское пламя не страшно, а ваше тело молоденькое — долго ли тут, растаете, как воск.
— Мы, Халимулла-бабай, в бога не ееруем.
— Ох, ох, ох! Как ты сказал? Не много ли взял на себя? Вы что, думаете, если вы в бога не веруете, то вас и в ад не пустят? Если так, то и меня возьмите в ваш союз. Тогда коза не достанется мулле, сами управимся с ней в вашей компании! Фу! Дождь как припустил, а мы с тобою богохульствуем. Как бы в самом деле молния меня не ухлопала. Бедная бабушка Сахип одна останется!
Салих выглянул во двор. Дождь продолжал лить как из ведра, но край неба далеко за деревней слегка побелел. Салих вдруг заметил, что держит в руках пустое ведро.
— Халькес-бабай! — воскликнул он.
— Что, сынок? — спросил старик, подняв голову.
— Зачем я держу это ведро?
— Уж не знаю, зачем ты его держишь.
— Так ведь вы же сказали!
Старик Халькес от души расхохотался. Салих удивленно глядел на него, не выпуская ведра из рук.
— Эх, дружок, разве все надо делать, что тебе скажут? Мало ли что я скажу! Вот скажу: «Иди-ка, сынок, ложись вон в ту лужу», — и ты пойдешь и ляжешь? Я хотел испытать тебя: «Есть ли, думаю, у этого парня своя голова? Что он знает, кроме того, чему его в школе научили?» Это уж так водится, сынок. Один скажет: «Созови гостей», другой скажет: «Женись», третий еще что-нибудь присоветует, а ты, значит, побежишь лоб расшибать? Ай, нет, нельзя так! С тех пор как сбросили царя Николая, многие ко мне приходили. И Шангарай-купец хаживал, и мулла к себе призывал, и муэдзин приставал. А к советам кто чай, кто сахар присовокупляет.
— И как же вы? Верили им?
— Спрашиваешь, верил ли? Ты человек грамотный, сам должен понимать. Сколько тут у нас людей с разговорами выступало — не счесть! И тот сеет речи, и этот словами брызгает. А только кто жиром пропитан, по-одному рассуждает, а кто пропитан потом — совсем по-другому. Спросил я однажды Хакима: «Кому верить?» Вытащил он из кармана газету и показал на портрет человека — был у него широкий лоб, а рука протянута вперед. «Вот кому — Ленину!» — твердо сказал Хаким. Он тогда только вернулся с фронта и вскоре снова уехал воевать. А я с тех пор зорко следил за словами и делами этого человека и своим темным умом вникал в его слова. Человек тот сказал: «Берите сами, что вам принадлежит, вы хозяева всего». И люди послушались его. И все, что бы он ни сказал, все подтверждается в жизни. Три года назад он умер. Как услышал я о его смерти, пришел к Хакиму, говорю в отчаянии: «Умер ведь! Что же будет дальше?» Хаким отвечает: «Не отчаивайся, Халимулла-агай, остался его близкий друг, он продолжит его дело». И назвал имя друга Ленина: Сталин его зовут.
Салих слушал старого кузнеца, не выпуская ведро из рук. Он уважал учителей в школе, ученых людей, старый кузнец был для него тоже учителем.
Салих ловил каждое его слово.
— Ты, кажется, видел в городе моего Бикбулата? — спросил Халькес и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Ворона, лаская своего птенца, говорит: «Мой беленький», а еж своему детенышу: «Мой мягонький». И я доволен своим сыном, но не потому, что он — кровь моя, а за его дела. В прежние времена, когда солдат приезжал на побывку домой, он только и знал, что «ать-два», иному его не обучали. А мой Бикбулат, когда приехал, совсем не похож был на того солдата. Грамотой овладел, толково объясняет, куда и как жизнь должна пойти. «Скоро, говорит, выйдет срок службе, вернусь, говорит, совсем домой, строить новую жизнь». Вот он какой! Не похож мой Бикбулат на человека, который, вроде тебя, чужим умом силен.
— Разве я похож на такого человека? — спросил Салих.
— Я вижу, ты все держишь в руках этот старый хлам.
Салих бросил в угол ведро и покраснел.
— Ну, не забывай старика, — сказал на прощание кузнец, — в свободное время заглядывай. Выберешь часок, черкнешь от меня письмецо Бикбулату.
Салих вышел на улицу. Дождь перестал, небо освобождалось от черных туч, выглянуло солнце. Мельчайшие капельки дождя висели на стеблях трав и листьях деревьев, сверкая в лучах солнца, как маленькие бриллианты. Жаворонки, вылетев из-под навесов домов, радостно носились в воздухе. По канавкам и тропинкам стекали ручейки.
6 — Тебе приходилось выступать с докладом? — спросил Хасан у Салиха.
Они возвращались с сенокоса, подняв косы на плечи. Собака, уставшая за день гоняться за сусликами и хомяками, мирно плелась за ними. Солнце медленно шло к закату.
— По правде говоря — нет, — ответил Салих.
— Но слушать, наверное, не раз приходилось?
— Еще бы! В городе собрания, можно сказать, каждый день. У нас был парень, Колмит по имени, — его иначе как докладчиком и не называли. Не было случая, чтобы он не просил слова, — так и объяснял: «Я, говорит, рожден быть оратором». Бывало, все в общежитии ложатся спать, а он встанет на кровати в одной рубахе и начнет: «Товарищи!» Длинную речь произнесет на сон грядущий. Наш школьный поэт Надршин даже стихи о нем сочинил:
Вопроса никто никогда не решит, Если собранье пропустит Колмит. В речи он все недостатки отметит, Мысль разъяснит, разовьет, обобщит И правильный путь к устраненью наметит... Мастер на речи «докладчик» Колмит!
Хасану было интересно слушать Салиха, но он боялся отвлечься и прервал его;
— Погоди! Я говорю к тому, что из вол кома пришла бумага. Ты получше ознакомься с ней, прочти книгу «Что должен знать каждый работающий в деревне» — она у нас есть — и тогда выступишь с докладом. Мы устроим все честь-честью, как в волкоме. Достанем высокий ящик, покроем его красной материей, чтоб встать за ним и говорить. У Яруллы я видел большую пузатую бутылку — нальем в нее воды, а ты сделаешь глоток-другой, если охрипнешь, а то и просто так отпей, как полагается оратору.
— О чем же доклад? — спросил Салих, сразу взволновавшись.
— Видишь ли, в инструкции сказано, что надо расширять ряды комсомола, привлечь к работе девушек, об этом и будешь говорить. Советуют разыграть спектакль, как в настоящем театре, — ты и сделаешь такое предложение, многим, я думаю, понравится. И пьеса есть, я у учителя видел. Только вот беда — не хватает четырех страниц в начале, и конца тоже нет. О конце я не беспокоюсь — как-нибудь придумаем. Лишь бы знать начало, а конец, правду тебе сказать, у меня уже в голове сидит.
— Пьесу, которую ты читал у учителя, я знаю! Я ее в театре видел. Я помню ее начало и смогу написать.
— Вот хорошо!
— А девушек обязательно привлечем. В первую очередь Миньямал.
Услышав имя Миньямал, Хасан густо покраснел и пробормотал:
— Конечно, конечно, мы ее позовем на собрание... Так разговаривая, они вошли в село. Уже смеркалось. Муэдзин поднялся на минарет, призывая правоверных на молитву.
Придя домой, Салих положил на нары картуз, доверху наполненный крупной земляникой.
— Ай! — восхищенно вскрикнула Васима, отправив в рот самую большую ягоду. — М-м! Как вкусно! Агай, возьми меня завтра с собой, целый день не подниму головы, буду собирать ягоды.
— Хорошо, возьму, — ответил, любуясь ею, Салих.
— О чем ты там говоришь? — слабым голосом спросила мать, приподнимая голову.
— Я говорю, что агай принес земляники. Вот, — и Васима снова раздавила в зубах сочную ягоду. — М-м! Она тает во рту, как сладкое-сладкое!
— Сладкое — это сладкое. А что такое сладкое-сладкое? — спросила Тазкира, которая в этот момент внесла самовар.
Васима, видя, что никто не препятствует ей лакомиться, запихнула в рот сразу целую горсть ягод.
— Сладкое — это сладкое, а сладкое-сладкое — это еще слаще.
Все рассмеялись, даже пожелтевшее лицо матери просветлело. Запивая ягоды чаем, дети со вздохом вспоминали, как бывало приезжал с базара покойный отец и привозил пряники.
После чая Салих отправился к Хасану и, забрав у него материалы, сел готовиться к докладу.
Собрание устроили в помещении сельсовета. Хасан в самом деле притащил несколько 50ящиков, соорудил настоящую трибуну и покрыл ее красной материей. Достал откуда-то скамейки и поставил их в ряд. Осмотрев комнату, он остался доволен: все на месте, как полагается на настоящих собраниях, только бы докладчик не подвел.
Первыми пришли ребята-комсомольцы, затем девушки: они явились стайкой, потолкались в сенях и только переступили порог, как кинулись обратно в сени. Их напугал покрытый кумачом стол.
Долго уговаривал их Хасан — они и входить не хотели и уходить не собирались. Спрятав головы под шали, они, хихикая, подталкивали друг дружку. Хасан решил было затащить их за руки, да побоялся вконец испортить дело. Наконец, одна из девушек, Марфу- га, считавшаяся самой бойкой, спросила:
— А игры будут?
— А как же! Мы и керосин из кооператива принесли.
К тысячам уловок пришлось прибегнуть, чтобы побороть их робость и ввести в помещение, но, оказавшись там, девушки тотчас же спрятались за печку.
Когда Хасан занял председательское место, за окном шумно заиграла гармонь и раздалась громкая песня. Сын кулака Шарапа и еще несколько таких же кулацких сынков решили сорвать собрание. В доме наступила тишина.
— Товарищи! — громко сказал Хасан. — Сыновья лишенцев хотят помешать нам. Кого они вздумали испугать? Комсомольцев? Напрасная затея, ничего у них не получится. Они боятся нас так же, как их отцы боятся наших отцов. Спокойно, товарищи! Сейчас наш комсомолец Салих Ягфаров сделает доклад. А вы сидите спокойно и слушайте. Смотрите, не разговаривайте! Веселиться будем после. Ну, Салих, начинай, предоставляю тебе слово!
Салих начал с обращения:
— Товарищи комсомольцы! И вы, товарищи юноши и девушки, еще не вошедшие в союз!
Коротко рассказав о бесправной жизни молодежи в странах капитала, он остановился на том, какие права дала Октябрьская революция молодежи в нашей стране. Слушателям казалось вначале, что он излагает статью из газеты, которую предварительно выучил наизусть. В самом деле так оно и было. Салих, неуверенный в себе, боялся отойти от прочитанной статьи, но, видя, как внимательно и доверчиво на него смотрят, почувствовал себя свободнее и стал говорить своими словами. Он сказал, что пора по-настоящему взяться за ленинские десятины, так, чтобы ни один колосок не остался в поле и чтобы народ увидел, как умеют работать комсомольцы. У Салиха возникла мысль, которой он тут же поделился: пора расширить культурные мероприятия сельсовета, а чтобы покрыть расходы, попросить выделить комсомольцам сенокосный луг.
Закончил свою речь Салих следующими словами:
— Вот сейчас кулацкие сынки гуляют по улицам и поют песни под гармонь. Среди них находятся ребята и из бедняцких семей. А почему? Гармошка веселит сердце, к себе зовет. Вот гармошкой и заманивает к себе кулачье наших ребят. Какой же вывод? Гармонь должна быть в руках комсомольцев. Вот, смотрите, что в нашей газете написано: «Гармонь — агитатор, гармонист — организатор». Если вы спросите, что такое «организатор», отвечу: тот, кто собирает ребят в одном месте, кто объединяет их.
Последние слова доклада Салих предварительно написал дома, а сейчас громко и отчетливо прочитал:
- «Да здравствует советская власть, давшая права рабоче-крестьянской молодежи! Объединяйтесь все под знаменем коммунизма!» Хасан ударил в ладони и крикнул:
— Давай, ребята, бейте в ладоши!
Все охотно зааплодировали.
— А сейчас, — обратился Хасан к аудитории, — надо задавать вопросы. Что значит «вопрос»? Это значит: если кто-нибудь чего- либо не понял или сам докладчик что упустил, то не надо стесняться, а спросить — и докладчик ответит. Кто бывал на собраниях, тот знает это, но тут находятся ребята и девушки, которые на собрании сегодня впервые. Я приведу пример. Есть у нас, как вам известно, кооперация, и вопрос может быть такой: что делает комсомол для кооперации? Понятно? А теперь задавайте вопросы.
Собрание молчало.
— Ну, у кого есть вопрос? Почему молчите? Должны же быть у вас вопросы. Задавайте, товарищи, не стесняйтесь!
Но ребята и девушки молча переглядывались и перешептывались — никто не решался выступить. Хасану показалось, что Фазулла открыл рот и потянулся вперед.
— Фазулла, ты хочешь задать вопрос?
Все лица повернулись к Фазулле. Тот смутился, но все же спросил:
— А правда, что когда у нас день, в Америке ночь?
Фазулла с опаской глянул на аудиторию, не поднимут ли его на смех. Но никто и не думал смеяться, всем хотелось услышать ответ, и когда Салих ответил, что правда и что он будет просить учителя прочесть лекцию по географии, все оживились.
Вопросы стали задавать смелее.
— Кто только теперь вступает в союз, тот получит билет? — спросил кто-то.
— Получит!
— А девушки?
— И девушки!
Гиният несмело поднял руку и робко начал:
— Мулла-абзы сказал моему отцу, что если кто из комсомольцев умрет, его не похоронят на кладбище.
— Глупости! — ответил Салих. — Только комсомольцы не собираются пока умирать. Так и передай отцу, а отец пусть передаст мулле.
— Я хотел еще спросить, — снова поднял руку Гиният, — но, боюсь, станете смеяться.
— Говори, смеяться не будем, — успокоил его Хасан.
— Мулла-абзы сказал отцу, будто комсомолец... Нет, не скажу, засмеете меня...
— Да говори же! — нетерпеливо прервал его кто-то.
— Мулла сказал отцу, что если комсомолец вздумает жениться, его не повенчают.
Несмотря на предупреждающий знак Хасана, все рассмеялись, он сам еле удержался от улыбки.
— Гиният жениться хочет! — воскликнул кто-то, и все снова расхохотались.
Не смеялся один Салих: он не знал, как ответить на этот вопрос. Ему еще не приходилось слышать, чтобы комсомолец женился. Он бросил растерянный взгляд в сторону Хасана, но и тот не знал, как быть, и предложил:
— Давайте, ребята, напишем в волком, там все знают — и ответят нам.
Вопрос, который вызвал сначала общий смех, задел, однако, многих — и довольно глубоко. Те, кто только что перед этим смеялись, задумались. Собрание, начавшееся с подъемом, стало увядать. Больше вопросов не задавали. Тогда Хасан вынул из кармана вдвое сложенную, с потрепанными углами тощую книжонку и стал читать.
Это была пьеса, которую Хасан с Салихом предполагали поставить. В пьесе рассказывалось о том, как бедный сапожник в подметках сапог, полученных для починки, нашел деньги, как они с женой сначала обрадовались находке, а потом повздорили из-за того; что делать с деньгами, что на них купить. На этом месте пьеса обрывалась, последней страницы недоставало, и молодежь, с интересом слушавшая чтение, была раздосадована.
— Что делать? — спросил Хасан, и глаза его разгорелись: ведь он уже придумал конец.
— Волком запросить, — отозвался кто- то, — там, конечно, знают.
— Нет, не будем запрашивать волком, — возразил Хасан, — сами найдем конец. Давайте посидим и подумаем.
— Да это не так легко! — уныло заметил кто-то.
— И не так трудно, — живо послышался ответ.
— Если не трудно — придумай!
— А вот и придумаю! — Хасан только ждал подобного предложения.
— Вот какой, я думаю, должен быть конец. Пусть они свои деньги разделят на три равные части — одну дадут на воздушный флот, на вторую купят гармонь в подарок комсомольцам, а третья, так и быть, пусть у них остается: приоденутся, наконец, а то ведь ходят как оборванцы!
— Верно, верно! — раздались голоса.
— Сапожника жалко.
— Пусть поживет на славу!
— Только не забыл бы гармошку купить!
На том и порешили.
Когда собрались расходиться, открылась дверь, и в комнату вошли брат Салиха Фарук с Нафисэ.
Фарук заметно изменился с тех пор, как его видел Салих, пополнел и весь как-то стал солиднее. Золотые зубы, сверкавшие, когда он открывал рот, придавали ему важность, и по одежде он не походил на прежнего Фарука. На нем был длинный черный плащ без рукавов, из-под которого виднелся белоснежный воротник и пышно повязанный иссиня-черный галстук. На голове черная шляпа. И Нафисэ одета нарядно: летнее белое пальто, украшенное круглыми пуговицами величиной с лошадиные глаза. Шляпа с перьями сидела на голове боком, и непонятно было, как она держится. Высокие шнурованные ботинки до колен; в руках белый зонтик, который она перекладывала из руки в руку, словно он обжигал ей пальцы.
Фарук холодно протянул брату руку. На- фисэ, наоборот, обратилась к нему очень приветливо:
— Так это Салих? Смотри-ка, Фарук, какой у тебя брат! Красивый и стройный! Настоящий джигит! Я совсем не таким себе его представляла.
И Нафисэ бесцеремонно заглянула Салиху в глаза, которые у него в самом деле были очень хороши: черные, как смородина, даже чернее его густых бровей.
Нафисэ впервые видела Салиха. Отец ее переехал в деревню Аккуян только в прошлом году, после смерти старого муллы.
— У вас собрание, что ли? — небрежно спросил Фарук.
— Да, — ответил вместо Салиха Хасан, — комсомольское собрание. Только уже кончилось, вы опоздали.
— А какие вопросы обсуждались? — еще более небрежно, как бы нехотя, спросил Фарук. Он хотел дать понять этим юнцам, что по своему положению и образованию он стоит несравнимо выше их и делает великое одолжение, разговаривая с ними.
— Разные вопросы, — коротко ответил Хасан. — О культурных мероприятиях, о вовлечении девушек в комсомол.
Фарук взглянул на девушек.
— Вот этих? — и он высоко поднял брови. — А пойдут ли?
— Да, они не прочь.
— А как смотрят на это их отцы?
Хасан сразу не нашелся что ответить и, подумав, сказал:
— Если разъяснить отцам, то они не пойдут против.
— Ты так думаешь? — покачал головой Фарук, еще раз поглядев на оробевших девушек, сбившихся у печки. — Боюсь, как бы отцы не сказали им: «Не смейте ходить к безбожникам!» — Не скажут, — неожиданно вмешалась Нафисэ.
Фарук повернулся к ней.
— Ты еще не знаешь, жена, что делает наша молодежь. Они вносят разлад в среду мирных людей. Натравливают их друг против друга. Все, видишь ли, за модой гонятся. Может быть, это годится у русских. Русский кулак по сравнению со своим середняком, действительно, гора высокая, а наш даже самый богатый крестьянин не богаче русского середняка. Какой же он кулак? Вспомни, Нафисэ, — продолжал Фарук, обращаясь только к ней, словно никого другого в комнате не было, — вспомни хотя бы нашего старика Шарапа. Он считается самым богатым человеком в деревне, а сам на заре уходит пасти своих кобыл. Говорят, он батрака держит. Да ведь и сам он живет не лучше батрака, чай пьет из склеенной кружки. Сын его носит сапоги, в которых я постеснялся бы выйти на улицу. И чем, спрашивается, такому старику Шарапу может не нравиться советская власть? Он всей душой к ней тянется. А вот эти, — Фарук кивнул головой в сторону Хасана, — дразнят его, допекают, как могут, и что удивительного, если обозлят его и он пойдет против. Видишь, к чему приводит новая мода!
— Я не согласна с тобой, дорогой, — сказала Нафисэ и приветливо взглянула на Хасана с Салихом, давая понять, что она-то всегда на стороне молодежи. — Чем плоха мода? А ты сам разве не гонишься за модой? Погляди, напялил на себя плащ без рукавов, какого отродясь не носили твои отцы и деды...
— Прошу вас, Нафисэ-ханум, — наставительно заметил Фарук, — не путайте плаща с политикой.
— Мы, Фарук-агай, идем по пути вашего родного отца, — поднял голос Хасан, — а он, кажется, говорил совсем не то, что вы говорите.
— Я не скажу, чтобы путь отцов был без ошибок. Внутри самой партии, должно вам быть известно, идут споры. Разве вы газет не читаете?
— Придется с тобой, агай, серьезно поспорить. Кажется мне, что ты сошел с прямого пути, — резко сказал Салих.
Нафисэ поспешила унять готовую вспыхнуть ссору.
— Будет вам! Год не видались и сразу заспорили! — проворковала она, взглянув на Салиха. — Салих, милый, мы по всей деревне искали тебя. Идем с нами.
— У нас тут еще дела, — уклонился от приглашения Салих.
— Как только освободишься, сейчас же приходи, слышишь? — и она снова заглянула Салиху в глаза.
Взяв под руку Фарука и приветливо улыбнувшись ребятам, Нафисэ направилась к двери. Фарук собрался было еще что-то сказать, но жена увела его поскорее.
Как только Фарук с Нафисэ ушли, Хасан плотно закрыл за ними дверь. Видно было, что он сильно озабочен.
— Давайте разучивать пьесу, — сказал Фазулла. Он видел, что Хасан и Салих чем-то обеспокоены, и хотел как-то помочь им.
Но в тот день так и не пришлось приступить к пьесе.
С шумом распахнулась дверь, и на пороге появилась фигура Айытбая. Ворот его рубахи был расстегнут, глаза налиты кровью, правая рука с засученным рукавом сжата в кулак — видно было, как на ней вздулись синие жилы.
— Эй вы! Кто здесь атаман? Покажите-ка мне его! Я его хорошенько огрею! — И Айытбай шагнул через порог.
Миньямал, побледнев как полотно, кинулась к дверям и исчезла.
— Кто, спрашиваю, здесь атаман? Вы что, языки проглотили?
— Ну, что нужно? — раздался голос.
Это был Салих. Он подошел вплотную к Айытбаю и стал перед ним. Ростом он был ниже Айытбая, но, вскинув голову и не моргнув глазом, глядел ему прямо в лицо.
— Так это ты путаешь наших детей?! — заорал Айытбай. — Да я из тебя кусок мяса сделаю!
— Ишь, какой ты сильный! — послышался голос, и рядом с Салихом выросла фигура Хасана.
Он был покрепче Салиха, и ростом выше, и в плечах шире. Айытбай беспокойно глянул на решительное лицо Хасана.
— Да неужели он такой сильный? — с холодной насмешкой сказал Гиният и тоже подошел к Айытбаю. — Ты одолел жену и дочь и, кажется, вообразил себя всесильным богатырем?
— Вас уже трое? — с хрипом вырвалось из горла Айытбая.
— Нет, четверо, — раздался голос сзади.
Айытбай обернулся: там стоял маленький Фазулла.
— Отвечай: зачем ты сюда явился? — повторил Салих свой вопрос, не спуская с Айытбая глаз.
— Затем, чтоб из ваших носов полилась кровь.
Хасан не выдержал и решительно проговорил:
— Убирайся отсюда вон!
— Вон? Ладно, пусть будет «вон!» Пусть будет «вон»!
Он вышел за порог, затем повернулся и, угрожающе размахивая кулаком, повторил:
— Ладно! Пусть будет «вон»!
Когда он ушел, в комнате воцарилась тишина. Наконец, Хасан поглядел на присутствующих и сказал убежденно:
— Одно вам скажу сейчас: не надо бояться. Никогда и никого не надо бояться.
Купец Шангарай вернулся домой пьяный. С помощью Ташбулата, правившего лошадью, он кое-как выбрался из тарантаса и, придерживая свертки, вынутые из кузова, шатаясь, вошел в дом.
— Где это он нализался? — спросила Ташбулата жена Шангарая Муглифа.
Ташбулат пожал плечами, распрягая лошадь.
— Где вы пропадали? Смотрите-ка, ло- шадь-то совсем загнали!
— Были в кантоне, оттуда вместе с Фаруком и Нафисэ заехали в Калкамон, к другу Тухфата-муллы.
— Ас Айытбаем где встретились? Он тоже вернулся пьяный.
— В Юлдашеве.
— Шайтан их носит! — в сердцах пробормотала Муглифа. — В кантон, из кантона в Калкамон, из Калкамона в Юлдашево — только лошадь загнали. О чем они говорили с Айытбаем?
— Не знаю. Я сидел в тарантасе, когда они выпивали.
— Уж что-нибудь там затевается, раз Фарук с ними.
— Не знаю, не знаю! — отмахнулся Ташбулат.
Муглифа вернулась в дом. Противный был вид у Шангарая. Он сидел, опустившись в кресло, с заплывшим, тупым лицом. Рубаха была расстегнута, тюбетейка с кисточкой валялась у ног.
— В такую жару нализался! — с отвращением воскликнула Муглифа.
— Молчи, жена! — рявкнул Шангарай, уставившись на нее мутными глазами. — Молчать, овца!
В сундуке окованном Яблоки желтые. Выбираю спелое. Все они незрелые.
— Вон ведь куда идут дела! — вскричал он, оборвав песню. — Пускай жара! Рожь мою жнут! Снопы мои вяжут! Хлеб мой возят! А ты молчи! Вот погоди, возьму я себе в жены девушку семнадцати лет! Ладная будет, как пальчик! Красивая... Посажу на почетное место, угощать буду сладко, а ты, как батрачка, будешь прислуживать нам. Вон куда идут дела!
И он снова запел:
В сундуке разложены Яблоки желтые.
Жаль, что нет такого же Желтого золота.
Муглифа чувствовала что-то недоброе. В последнее время Шангарай чаще обычного пропадал из дому, толком ничего не говорил, и на все ее вопросы отмалчивался. Пьяный бормотал что-то себе под нос, а что — толком п не разберешь. Только и слышно от него: «Вон ведь куда идут дела!» Куда же идут дела Шангарая? За последние годы открытая им лавка приносила немалый доход. Он сумел завязать отношения со многими нужными людьми и через них подружился с человеком, который возил товары в кооператив. По квитанции за сданные кооперативом государству шкуры, шерсть и яйца он несколько раз привозил в деревню товар и на этом наживался. Раза два получил товар, пользуясь маркой профсоюза работников земли и леса, и сбыл втридорога. Сепаратор тоже приносил ему немалую прибыль. Только в последнее время, с тех пор как кооперацией занялся сам Хаким и завел там строгий контроль, дела пошли не в пример хуже.
Развалившись под горячими лучами солнца, Шангарай захрапел, а Муглифа, стоя над ним, качала головой.
Проснулся купец только в сумерки и сразу заорал дико вращая белками:
— Муглифа!
— Что случилось? — прибежала она.
— Вари мясо! Много вари! Не жадничай! Гостей зову! Вон куда идут дела!
Когда совсем стемнело, Шангарай вышел из дому и вскоре привел Тухфата-муллу — человека лет сорока пяти, с широким лицом и аккуратно подбритой небольшой бородкой и усами. Живот его сильно округлился, и мулла поглядывал на него весьма одобрительно.
— Говоришь, что я располнел? — спросил Тухфат-мулла, перевалив через порог и бросая осторожный взгляд па дверь, за которой возилась с самоваром Муглифа. — Это хорошо, что я располнел, хорошо! Вид полного человека доставляет ближнему спокойствие и радость.
Они сели за стол.
— А какова опа из себя, эта Миньямал? — спросил мулла, продолжая, видимо, давно начатый разговор. — Я бывал не раз у Айытбая, но дочку его так и не пришлось увидеть. Слыхать слыхал, говорят — красавица! Полненькая, говорят, кругленькая, хи-хи-хи! Мне Фарук, зять, рассказывал, он видел ее на собрании комсомольцев, — говорит: маленькая и гибкая, как пиявка.
— Если она полненькая, то как может походить на пиявку? — похохатывал, очень довольный беседой, Шангарай.
Шангарай сам принялся разливать чай, — он не хотел впускать в комнату жену, чтобы она не слышала разговора.
К обеду явился Айытбай.
— Братец! — обратился к нему Шангарай, когда гости принялись за еду. — Мулле-абзы я все рассказал, и он одобряет. Породнимся мы с тобой, и пойдут у нас дела. Ай, пойдут!
Айытбай нахлобучил тюбетейку на самые брови и сказал хмуро:
— Жадный ты человек! Обманешь меня.
Тут вступился мулла.
— Никто тебя обойти не может, не родился еще такой человек, который бы тебя обошел. А Шангарай и не хочет тебя обманывать. Об этом ты не беспокойся. Вот насчет дочки у меня есть вопрос: созрела ли она для брака?
Айытбай помолчал, хлебая суп, наконец, сказал:
— Ее метрика у вас.
— Как же мы поступим?
— Да что тут думать! — воскликнул Шангарай. — Зачем нам метрика? Мы с Айытбаем ударили по рукам? Ударили! Сделаю я его богачом? Сделаю. Вот и вся метрика!
Айытбай насмешливо взглянул на Шанга- рая и сдвинул тюбетейку на затылок.
— Деньги почему-то не пристают к Айыт- баю!
— Я счастливее, ко мне пристают. Породнимся — и к тебе пристанут.
Лйытбай вернулся домой поздно, ведя за собой жирную овцу. Подмышкой он держал объемистый сверток с ситцем, головным платком, нитками, мылом, чаем, сахаром. Увидев во дворе овцу, Миньямал сразу поняла, что случилось. Она побежала к своей мачехе, которая в чулане ставила самовар, и крикнула ей в лицо:
— Продали вы меня Шангараю!
От неожиданности мачеха выронила из рук щипцы с горящими углями. Она собиралась как следует отчитать падчерицу, но, увидев ее глаза, полные лютой ненависти, оробела.
— Чего па меня уставилось? Я-то при чем? Отцу говори!
Сколько лет ходила Миньямал, боясь поднять на мачеху глаза! Сколько колотушек выпало па ее долю, сколько сиротских слез пролила она в темных уголках! Пришел, видно, конец ее терпению.
«Откуда у нее такая сила?» — испуганно подумала мачеха.
Айытбай, не дожидаясь, пока вскипит самовар, повалился па пары и вскоре захрапел.
Наступила ночь. Весь дом погрузился в сон, только Миньямал не спалось. Укутав плечи одеялом, опа села у окна. Темно. В сарае тяжело сопит корова. Миньямал представила в эту минуту, как сопит купец Шангарай. Она вздрогнула. Как бы заслоняя собой отвратительную тушу купца, перед ней возник образ покойной матери. Миньямал вспомнила мать. Отец часто бил ее, и Миньямал в отчаянии цеплялась за рубаху отца, защищая мать, но тот прогонял ее пинками. Углубившись в воспоминания, Миньямал не заметила, как в окно заглянула заря. Когда совсем рассвело, она надела ведра па коромысло и спустилась к реке, надеясь кого-нибудь встретить. Но никто не попадался на пути, ни одна живая душа. «Что же Хасан? — думала она. — Ведь он должен все знать».
Наполнив ведра, она медленно возвращалась обратно. Она желала одного — встретить сейчас Хасана и рассказать ему все. Вдруг она увидела Васиму — девочка бежала куда-то с ломтем хлеба в руке. Миньямал бросилась к ней.
— Сестренка, — позвала она ее, — беги домой и скажи Салиху — пусть он сам или Хасан приходят в кузницу к Халькесу-бабаю. Я сейчас отнесу ведра домой и приду туда. Поняла?
— Поняла.
— Не забудешь?
— Не забуду.
— Никому не говори то, что я тебе сказала.
— Не скажу.
Васима помчалась домой и торопливо рассказала Салиху про свою встречу. Салих, бросив все дела, побежал к Хасану, но пи Хасана, ни его матери не застал дома — они ушли в поле. Тогда он забежал в кузницу и, увидев, что Миньямал еще не пришла, стал дожидаться ее у входа.
Его внимание привлекла забавная картина. Перед кузницей стояла лошадь, которую, видно, только что подковали. А старуха Са- хип, жена Халькеса, держала обеими руками хвост лошади. Вид у старухи был чрезвычайно серьезный. Салиху показалось смешным ее занятие.
— Бабушка, зачем ты держишь лошадиный хвост?
— Твой бабай приказал, — и старуха кивнула в сторону кузницы, откуда доносился голос Халькеса. — Он подковал лошади заднюю ногу и наказал держать хвост. «Не дай бог, говорит, если хвост коснется новой подковы».
Салих понял, что это очередное чудачество старика Халькеса.
Хвост у лошади был короткий, а лошадь крупная, и опасность, которой боялась старуха, подкове не угрожала.
— А если коснется, тогда что будет?
— Не знаю, — безразличным тоном ответила старуха. — Кузнецу виднее.
Салих рассмеялся. Он вспомнил, как сам с глупым видом держал в руках пустое ведро.
Салих вошел в кузницу, встреченный смехом Халькеса.
— Как там моя старушка, все еще держит хвост?
— Все вы шутите, бабай!
— Эх, милый! Ей семьдесят лет, кто с ней захочет шутить, кроме собственного мужа?
В кузнице был еще незнакомый человек: проездом в город он остановился, чтобы подковать лошадь. Обращаясь к путнику и поглядывая на Салиха, Халькес сказал: — Больше пятидесяти лет она прожила со мной. Скоро тридцать лет, как я орудую в кузнице, подковал лошадей — счету нет. Что может статься железу от волоса? А она сама до этого не додумается! Раз я, муж, сказал, значит — закон! Ах, бабы, бабы! Вдолбили ей муллы в голову: «Ты — раба мужа!» Она и старается.
— Стоит ли вам, бабай, шутить над старухой? — сказал путник.
Халькес, видимо, смутился и, вытянув жилистую шею, крикнул:
— Эй, старуха! Подкова-то высохла. Хвост теперь можно и отпустить!
Старуха опустила хвост, но с большими предосторожностями. Тут на пороге появилась Миньямал — в руке она держала большой нож.
— Халькес-бабай! Наточи, пожалуйста, — одним духом выпалила Миньямал, протягивая нож.
— Что за спешка? — удивился Халькес, взглянув на запыхавшуюся девушку. — Разве вы собираетесь резать барана?
Кузнец взял в руки нож, осмотрел его с обеих сторон, провел пальцем по лезвию и пожал плечами.
— Он вовсе не такой уж тупой! Поточила бы о край котла, чем бежать сюда сломя голову!
Подняв глаза, он заметил рядом с девушкой Салиха и рассмеялся.
— Теперь понимаю, что с ножом... Ладно, ступайте за кузницу, побеседуйте, — сказал он добродушно и повернулся к путнику: — А вот эти молодые люди не будут похожи на мою старуху! Их не уговоришь держать конский хвост! Видишь, она сразу нашла предлог, чтобы прийти на свидание.
Стена кузницы защищала молодых людей от любопытных взглядов, Миньямал доверчиво взяла Салиха за ворот рубахи и сказала:
— Отец сговорил меня за купца Шанга- рая. Спасите меня!
По ее щекам потекли слезы, и она медленно стала утирать их кончиком головного платка. У Салиха тоже выступили слезы на глазах, но тотчас же высохли.
Он сказал горячо:
— Нет, мы этого не допустим!
Миньямал печально покачала головой:
— Да вы только поговорите — и все...
— Вот увидишь, мы этого не допустим. Обязательно придумаем что-нибудь.
— Завтра уже будет поздно... — И, оглянувшись, Миньямал добавила: — Я пойду домой, хватятся меня.
— Иди и сделай вот что: напиши заявление о приеме в комсомол.
Миньямал торопливо пошла прочь, но по мере приближения к дому, словно вспомнив, куда она идет, замедляла шаг. Голова у нее шла кругом.
Салих помчался в поле к Хасану. Он застал его вместе с матерью Гульсибер. Они сидели под самотканным ковром, накинутым на вздернутые оглобли, и пили чай.
Увидев Салиха, мать Хасана повязала голову платком: считалось неприличным простоволосой встречать мужчину.
— Смотри, Салих, — улыбнулся Хасан, глядя на мать. — Она стесняется тебя.
— А как же! — важно ответила женщина. — Салих — глава семьи!
Гульсибер освободила место для Салиха, приглашая к чаю.
— Ой, нет! — замахал он руками. — Мою жажду кружка чая не утолит. Мы лучше пойдем выкупаемся.
Голос у него был серьезный, и Хасан понял, что Салих пришел к нему по какому-то важному делу.
Вскочив с места, он пошел за Салихом. Они прошли порядочное расстояние, и когда их не смогли видеть и слышать, Салих, крепко сжав руку Хасана, сказал, подчеркивая каждое слово:
— Завтра Миньямал отдают за Шангарая.
Словно тяжелая палка обрушилась на Хасана. Он остановился как вкопанный.
— Постой, что ты сказал?
— Ты слышал.
— Откуда ты знаешь?
— Она сама сказала.
— Что же делать?
— Давай думать.
Оба помолчали. Салих заговорил первый:
— Тотчас же надо принять ее в комсомол.
— А дальше?
— Сегодня же ночью, не теряя времени, увезешь ее в волость, а то и в кантон.
— А там?
— Там товарищи постарще помогут.
Они вернулись обратно, так и не искупавшись.
Гульсибер, покончив с чаем, принялась наматывать тряпку на рукоятку серпа.
— Руку сильно натерла, — объяснила она.
Гульсибер не заметила на лицах ребят беспокойства и снова предложила чаю.
— Мама! Мне надо спешно пойти домой, чтобы отослать в кантон срочную бумагу.
— А как же наша полоска? Надо бы сегодня закончить.
— Кончай сама, если сможешь, и возвращайся домой. А я поеду.
Хасан принялся запрягать лошадь. Руки у него дрожали, и ему долго не удавалось вдеть края дуги в ушки хомута, а вожжи он так и не наладил как следует. Уже в дороге он заметил неисправность и стал на ходу распутывать вожжи.
— Ну и запряг! — покачал он головой.
— Вот что делает любовь! — усмехнулся Салих.
— Она путает вожжи.
Оба засмеялись, хотя им было не до смеха.
Около полуночи Хасан ждал с запряженной телегой под ивами, в стороне от моста. Он лежал на земле и с учащенно бьющимся сердцем всматривался в темноту, стараясь различить знакомые фигуры Миньямал и Салиха.
«А если ее подстережет Айытбай, почуяв неладное? Что тогда? — проносилось у него в голове. — Тогда прямо брошусь к дому Айыт- бая и закричу, как на пожаре: «Отдавай Миньямал!» Айытбай, конечно, схватится за нож или за топор — он из таких, — но и я спуску не дам!» Хасану все более нравилась эта мысль, и он решил: если до первых петухов Миньямал не появится, так и сделать. А там будь что будет.
Над головой Хасана со свистом пролетела летучая мышь, и снова воцарилась тишина. У берега шлепнулась рыба, и опять наступило тяжелое, гнетущее молчание. Вдруг вдали, у берега, мелькнуло что-то белое. «Наверное, теленок», — подумал Хасан, но все же вскочил на ноги и побежал вперед. Остановившись, он тихо, неуверенно кашлянул. В ответ тоже послышался кашель. Мгновение спустя Хасан узнал Салиха и Миньямал. Миньямал, не помня себя, бросилась к Хасану, он бережно взял ее под руку и усадил в телегу. Времени терять было нельзя, и Хасан потянул вожжи.
— Мы еще увидимся, Салих, — сказала Миньямал нежным голосом.
Салих простился с ней за руку.
Телега, тщательно смазанная еще днем, бесшумно двинулась с места, с быстротою молнии проскочила через мост и исчезла в темноте.
Салих еще долго смотрел в ту сторону.
8 На следующее утро Айытбай проснулся позже обычного. Свой хлеб он уже успел убрать и заскирдовать, а молотить не торопился. Он ждал, когда люди несколько освободятся от полевых работ и можно будет позвать их на подмогу. Поэтому он проснулся в беспечном настроении и долго сидел на нарах, вытянув свои длинные ноги.
— Мастура! Миньямал! — крикнул он, когда ему надоело так сидеть.
Мастура, жена Айытбая, боязливо пряча голову, вошла в избу. Сегодня она тоже проспала, чуть не опоздала выпустить корову и нагнала стадо только в самом конце деревни. Хватилась она Миньямал уже после того, как вернулась домой, но побоялась разбудить мужа. И сейчас, сжавшись от страха, ждала, что будет.
— Чай вскипел, да тут... — замялась она.
— Ну, что там еще?! — заорал Айытбай.
— Да, вот Миньямал... Ее нет в постели.
Глаза Айытбая округлились, казалось, они сейчас выскочат из орбит. Страшная мысль мелькнула у него в голове, и он закричал таким голосом, словно его душили:
— Найди!
“Где же я найду? — растерянно попятилась Мастура.
— Хоть под землей!
С этими словами Айытбай соскочил с нар, схватил кнут, висевший у двери, и принялся, как одержимый, хлестать жену куда попало. Платье ее порвалось в нескольких местах, на лице и спине выступила кровь, она кричала от боли, но Айытбай продолжал ее бить до тех пор, пока она не свалилась па нары. Айытбай скинул ее на пол и, даже не взглянув в ее сторону, выскочил во двор. Пометался там и, не зная, что предпринять дальше, вернулся в избу. Увидев, что Мастура пытается приподняться, он пнул ее ногой в голову и снова выбежал во двор. Собрался было к купцу Шангараю, но, выйдя за ворота, повернул обратно. «Надо скорее прирезать овцу и съесть ее, пока не отобрали», — подумал он. Вспомнив, что Миньямал встречалась с Хасаном, Айытбай решил пойти к нему. «Не там ли она, проклятая?» Зайдя в дом, он схватил нагайку и, засунув ее в рукав, кипя от злобы, кинулся к Хасану.
На дверях дома Хасана висел замок. Айыт- бай дернул дверь с такой силой, что замочный болт выскочил и дверь раскрылась. В нос Айытбаю ударил сырой запах земляного пола.
— Подать сюда этого арестанта! — ряв- кнул он.
Соседка Нагима испуганно выглянула из- за плетня.
— Ты что замки ломаешь? — крикнула она.
— Я спрашиваю: где этот арестант?
— Арестанты сидят в остроге, а Хасан в поле.
— Когда ушел?
— О боже! Чего ты орешь? Тьфу, смотрите, как он выпучил глаза!
Айытбай выскочил за ворота и побежал вдоль улицы, злобно хлеща нагайкой направо и налево.
Была страдная пора, и, кроме древних старух и стариков в домах да мальчишек без штанов, бегавших по улицам, никого в деревне не было.
Айытбай забежал к Шангараю, но его дома не оказалось. Не зная, что предпринять, он зашел в кузницу к старику Халькесу, бормоча себе под нос что-то невразумительное. Видя, что Халькес его не понимает, он, наконец, опомнился и сказал просто:
— Дочь мою украли.
Халькес промолчал в ответ и стал усиленно раздувать мехи, потом довольно долго почесывал себе спину, задрав рубаху, и только после этого сказал:
- — Дела, дела!... А ты свистел?
Заметив удивление в глазах Айытбая, пояснил:
— Однажды у муллы спросили: умеет ли он свистеть? Он ответил, что мулле не пристали такие мужицкие замашки. Тогда ему поведали, что дочь его бежала с его же батраком. Тут он свистнул довольно-таки протяжно. Глядя на тебя, я вспомнил этого муллу.
— Странные у тебя шутки, Халькес-агай! Кошке смех, а мышке слезы.
Айытбай, несмотря на свой нрав, обычно не решался грубить кузнецу. Сам не зная почему, он робел перед Халькесом. И сейчас он смолчал, хоть видел, что старик смеется над ним.
— Ай, и джигит тот вор! — воскликнул Халькес. — Видать сокола по полету! Ай, молодец! Наверное, подумал он: «Пока Айытбай ворует лошадей, дай-ка я стяну его дочку!» Есть же поговорка: «Кто забирает утку — отдает гуся».
Айытбай сжал кулаки.
— Видит бог, пущу я этому негодяю в дом красного петуха! Все как есть сожгу!
Халькес думал, что Миньямал похитил Салих, и был доволен его молодечеством, но, услышав эту угрозу и зная Айытбая, обеспокоился за парня.
— Напрасно кипятишься, Айытбай! Ведь она тебе родная дочь, радуйся ее счастью! А в острог ты и так попадешь. Лучше сговорись с тем парнем, он неплохая пара твоей дочери. Я их знаю, этих ребят! Можешь на них положиться.
Айытбай в сердцах взмахнул нагайкой и вышел из кузницы. Когда после заката солнца народ вернулся с поля, все только и говорили о похищении Миньямал. Встречая мать Хасана Гульсибер, близкие люди поздравляли ее «со скорой свадьбой». Не успела Гульсибер зайти в дом и заняться стряпней, как появился Ташбулат.
— Тетя Гульсибер, иди, тебя мулла-агай зовет.
Гульсибер обомлела. Она боялась муллы. Прежний мулла был очень суров, а этот, говорили, тоже не лучше. Молодежь — и та во время гулянья не решалась проходить мимо окон его дома с гармошкой.
— Зачем я ему? — заволновалась Гульсибер.
— Будто не знаешь? За сына отвечать!
Ташбулат ушел, а Гульсибер накинула на себя старый кафтан и, накрывшись им с головой, выбежала на улицу.
Люди, высунув головы из окон, следили за ней, догадываясь, зачем ее позвали. Она же шла и никак не могла вспомнить подходящей к случаю молитвы и только шептала дрожащими губами: «Ай, алла, бисмилла, ай, алла, бисмилла...» Бедной женщине мулла казался всемогущим. Вот она войдет сейчас в горницу, чистую, как рай, а навстречу ей выйдет грозный мулла с божественной книгой в руках и опустит эту тяжелую книгу ей на голову. «Ай, алла, бисмилла, ай, алла, бисмилла...» На пороге дома Гульсибер встретилась с женой муллы — белолицей красавицей. Та сердито взглянула на нее и сказала что-то обидное вслед. Гульсибер вошла в комнату. Там было действительно красиво. Диковинные цветы с необыкновенно широкими листьями стояли в кадках прямо на полу. Горела лампа, похожая на солнце. По углам пышной кровати поднимались слепящие глаза серебряные шары. По стенам были развешаны картины, и среди них — одна с изображением Аясуфии с двойным минаретом. И все это отражалось в большом, до самого пола, зеркале!
За столом сидели мулла и купец Шангарай. Айытбай стоял поодаль, у дверей, с перекошенным от злобы лицом.
— Добро пожаловать! — сказал мулла и замолчал.
Наступила тишина. Гульсибер она казалась грозной и предвещающей беду.
— Великий грех совершил твой сын, — снова начал мулла. — Он увел от мужа жену, соединенную с ним узами священного брака.
«О чьей жене он рассказывает? — подумала Гульсибер. — Ведь говорили, что Хасан увез Миньямал».
— Подобный поступок есть преступление перед шариатом и перед законом. Шангарай- купец дал калым Айытбаю, Айытбай принял калым. Заставь сына вернуть Миньямал или оплати все убытки по этому делу.
Шангарай вскочил со своего места и стал бегать взад и вперед по комнате, издавая хриплые, нечленораздельные звуки.
— Ничего не желаю знать! — кричал он. — Верните мне Миньямал!
Айытбай зарычал:
— Спалю я ваш дом, проклятые! Голыми оставлю!
Гульсибер дрожала от страха, не в силах вымолвить слова. Шангарай и Айытбай, видя ее беспомощность, еще больше обнаглели, кричали на нее и плевали ей прямо в лицо. Наконец, Айытбай грубо вытолкнул ее за дверь.
Еле живая, женщина вернулась домой и застала там Салиха и Хакима. Она знала, что это люди — защитники бедноты, и вот они уже были здесь, рядом с ней. Гульсибер расплакалась навзрыд.
— Тебя били? — сжал брови Хаким.
— Не били, но срамили, — плакала Гульсибер.
— Зачем ты пошла туда? Зачем? — тихо сказал Хаким и подсел к ней на нары.
— Потребовали они меня.
— А ты и послушалась? Силы ты своей не понимаешь! Они пользуются этим и на голову тебе садятся. А сила твоя — советская власть!
— Айытбай грозился поджечь дом... — При воспоминании об этом Гульсибер снова заплакала.
— Он и Халькесу-агаю так сказал, — заметил Салих.
— Айытбая мы завтра же вызовем в сельсовет. Пусть он только попробует! Хоть ногтем пусть посмеет прикоснуться!
С этими словами Хаким ушел. Салих остался.
— Ты, тетя Гульсибер, ложись и спи спокойно. Я эту ночь покараулю ваш дом.
Салих просидел во дворе Гульсибер до зари. Когда стало светать, во двор въехала телега — это вернулся Хасан. Вид у него был усталый, но довольный.
— Где Миньямал? — не здороваясь, спросил Салих.
Хасан распряг лошадь, привязал ее к телеге и только тогда ответил:
— Все хорошо! Она шлет тебе тысячу приветов. И еще приказала тебя поцеловать.
Оба друга крепко обнялись.
— Рассказывай, рассказывай! — торопил его Салих.
— Как только приехали, прямо явились в кантонный комитет комсомола. Рассказали все товарищу Агзамскому. Хороший парень, сразу понял, в чем дело. Похвалил нас. «Так и надо было поступить, — говорит. — На то вы и передовая молодежь». И повел нас в женотдел. Там сидела почтенная женщина, партийный работник. «Все будет хорошо, — успокоила она нас. — Ты возвращайся домой, а Миньямал останется здесь, берем над ней шефство. Будет жить в общежитии и учиться на курсах. Передай товарищам, что через полгода она вернется к вам в село секретарем сельсовета».
Салих онемел от восторга. Он потоптался на месте, не зная, что ему сказать. Наконец, спросил:
— Она так и сказала, чтобы ты меня поцеловал?
— Да, так и сказала. И плакала от радости.
— И тебя поцеловала?
— Ну конечно...
— Вы поженитесь?
— Об этом мы еще не говорили.
Однажды Салих, сидя у Хасана, увидел в окно Хакима с каким-то человеком в военной форме.
— С кем это ходит Хаким-агай?
Хасан оторвался от бумаг.
— Кто же это может быть? Вероятно, Бик- булат-агай, кто же другой? Халькес-бабай говорил, что ждет его со дня на день.
— Бикбулат! — обрадованно вскричал Салих. — Так я его знаю. Я бывал у него в городе. Хороший он человек, настоящий большевик! Вот нам еще подмога.
— Пойдем сейчас к нему.
Друзья побежали к Бикбулату, но застали дома только старуху Сахип.
— Приехал, приехал! — радостно подтвердила она и показала на вещевой мешок и шинель, висевшую на самодельной вешалке. — Весной, когда уезжал, говорил, что раньше осени не свидимся. А его взяли да и вовсе отпустили, и смотрите только, как одели на дорогу!
Старуха стала вытаскивать одежду из мешка, показывая каждую вещь.
Салих с Хасаном подивились на старуху. Обычно молчаливая и неторопливая, она вертелась волчком по комнате и говорила без умолку.
— Где же он? — спросил Хасан.
— Сама не знаю, — ответила старуха обиженно. — Посидеть бы ему около матери, на себя дать поглядеть. А он как приехал — сразу укатил в район. «Записать меня, говорит, должны, что я вернулся».
— На воинский учет встал, — догадался Хасан.
— Вот-вот, — подтвердила старуха. — А сегодня пи свет ни заря ушел куда-то с Хакимом. Хоть вы ему скажите...
— Скажем, бабушка Сахип, скажем, — ответил Хасан, и оба поторопились уйти.
В другое время они, пожалуй, остались бы, чтобы и старуху уважить, и Бикбулата дождаться. Но день был деловой и важный. Как раз сегодня деревенские комсомольцы собирались выйти в поле, на ленинскую десятину. Некоторые ребята, и не состоявшие в комсомоле, обещали в этот день пойти вместе с комсомольцами.
Салих и Хасан быстро зашагали к сельсовету. Первым делом они вывесили над воротами красный флаг. Обидно было, что запаздывал гармонист.
— До сих пор его нет! — с досадой заметил Салих.
— Он недавно в комсомоле и еще плохо знает дисциплину.
— Отчего бы тебе не взяться за гармонь?
— В моих руках она плохой организатор!
— А ты попробуй. Потяни ее за оба уха — она и заговорит.
Хасан забежал в помещение, вынес гармошку и лихо расселся на завалинке, как заправский гармонист.
— Начало хорошее, — одобрил Салих.
Оба рассмеялись.
Хасан раздвинул и сдвинул мехи гармошки, и она издала не лишенный приятности звук.
Это, однако, было все, на что был способен в данных обстоятельствах Хасан. Но тут на помощь явился Фазулла. Он любил совать свой похожий на клюв птицы нос всюду, где испытывали затруднение. И хотя за непрошенные советы его прогоняли со смехом или сердясь, но часто обнаруживалось, что совет Фазуллы был не так уж нелеп и что голова у него работает. В кузнице старика Халькеса он чувствовал себя как дома, вечно с чем-то возился, что-то мастерил, и старый кузнец благосклонно посматривал на его копошащуюся фигурку, давая ему полную свободу действий. И на этот раз Фазулла оказался тут как тут. Попросил у Хасана гармошку — давно ему хотелось рассмотреть ее поближе, и когда она очутилась у него в руках, он ловко обследовал ее, прислушался к ее дыханию, приложив к ней ухо, как к груди больного, и неожиданно вытянул какую-то довольно сносную мелодию.
Хасан с Салихом переглянулись: «из него выйдет толк». Во всяком случае, польза была уже сейчас: звуки, исторгнутые Фазуллой, послужили сигналом, и к зданию сельсовета стала собираться молодежь. Вскоре явился смущенный и пристыженный гармонист, и под руками мастера гармонь сразу собрала вокруг себя не только комсомольцев, но даже и тех, кто еще колебался, идти или не идти на уборку комсомольской десятины. Не мешкая построились в колонну и отправились в путь. Фазулла запел:
С песней звонкой шагай, комсомол, Пролагая дорогу вперед.
Пусть трепещут враги! Комсомол Высоко свое знамя несет.
— Эх, жалко, нет Бикбулата-агая, он подал бы команду! — заметил Хасан.
— Это и я могу, — ответил Салих. — Мы в техникуме проходили строевую подготовку.
— Что ж ты молчишь?
Хасан вытолкнул Салиха вперед, и тот неожиданно сильным голосом начал командовать:
— Раз-два, левой! Левой!
Комсомольцы подтянулись, выровняли шаг и с уважением стали поглядывать на Салиха, как на командира.
Когда колонна поднялась на холм, ее увидели Бикбулат и Хаким; они остановились, с волнением глядя на открывшуюся перед ними картину. Оба коммуниста — широкоплечий, приземистый Хаким и тонкий, но крепкий Бикбулат — долго смотрели вслед удаляющейся колонне, словно измеряя путь, который предстояло совершить этой молодежи.
Бикбулату, когда он наведался в волость, предложили стать во главе сельского совета. Сейчас они разговаривали с Хакимом об этом.
— Неизвестно еще, как народ на это посмотрит, — Бикбулат повторял эту фразу раз десять со вчерашнего дня.
— Поступим, как тебе советовали, — сказал Хаким. — Хорошо подготовимся, проведем собрание батраков и бедноты. А на эту молодежь ты можешь твердо опереться.
Хаким перечислил Бикбулату активистов из молодежи. Хасана и Салиха Бикбулат знал хорошо. Весной, во время отпуска, он знакомил Хасана с работой городского комсомола, а с Салихом он сблизился в Уфе. Бикбулат после того, как принес Салиху весть о смерти отца, снова зашел в техникум, но уже не застал его там. Бикбулат долго тогда беседовал с его школьными товарищами. Он посмотрел его рисунки, и хотя не считал себя знатоком живописи, однако мог твердо сказать, что сделаны они талантливой рукой. По приезде он рассказал об этом Хакиму, тот кивнул головой и ответил кратко: «Учтем».
— Пойду к ним, на ленинскую десятину! — сказал Бикбулат.
— Иди, иди поговори с ними.
Когда Бикбулат пришел на поле, работа была в полном разгаре.
— Да сопутствует вам успех! — приветствовал молодежь Бикбулат.
Ребята со сверкающими на солнце серпами окружили Бикбул ата тесной толпой, даже девушки, обычно стеснительные, пользуясь тем, что они на работе, громко разговаривали и смеялись.
— Как работается? — спросил Бикбулат.
— Хорошо! Дружно! — ответили ему хором.
Глядя на раскрасневшиеся довольные лица, Бикбулат и без слов понял, что работа спорится.
На границе участка виднелся колеблемый легким ветром красный флаг, придававший полю необычный вид.
— Все сразу преобразилось! — воскликнул Бикбулат. Вы первые вышли с красным флагом в поле. Только одно мне не нравится.
■ — Что же? — воскликнули все в один голос.
— Да то, что жнете вы серпами. Сюда бы машину надо. Ну, ничего, будет и машина. Все будет!
А Салих сказал:
— Нам, понимаешь, хочется все обработать собственными руками, сжать чистенько- чистенько, чтоб ни одного колоска не осталось на участке.
Уходя, Бикбулат отозвал Салиха в сторону и сказал ему с таинственным видом:
— Я привез тебе письмо.
— Письмо? От кого?
— Прочтешь — узнаешь! — ответил Бикбулат с лукавой улыбкой. — С собой его у меня нет. Придешь вечером — дам.
Домой Бикбулат вернулся поздно.
Старуха Сахип третий раз подогревала самовар, поджидая сына. Днем приходил рыбак Митрофан и принес две большие щуки.
— Я слышал, что твой сын вернулся. Вот угости его рыбкой! Поджаришь на сковородке.
Митрофан сказал «сковородка» по-русски, по-башкирски она называется «таба». Старуха никогда не слышала слово «сковородка» и подумала:
«И таба найдется, и масло достану, но где найдешь то, чего нет во всей деревне? Обойдемся как-нибудь без сковородки. Сварю-ка я по-старинному, в котле».
Сидя за столом и лакомясь рыбой, отец подшучивал над старухой, рассказывая сыну:
— Мать искала сковородку и не нашла. Жарить на табе не решилась. Пожалела рыбку, пустила ее плавать в котел.
Бикбулат объяснил матери, что сковородка и есть таба.
Старих Халькес посмеялся, довольный, что он и его сын знают русские слова.
После ужина они вышли во дворик. Бикбу- лату хотелось курить, но он стеснялся отца. Старик Халькес догадался о желании сына по тому, как Бикбулат потянулся к карману и тотчас убрал руку обратно.
— Сынок, — сказал Халькес, — никогда я так не жалел, как сейчас, что у нас не было скотины и нет хлева. Если бы ты вовремя предупредил о своем приезде, я построил бы для тебя хоть шалашик.
Бикбулат ничего не понял из того, что сказал ему отец.
— Зачем? — спросил он удивленно.
— Затем, чтобы тебе было где курить, спрятавшись от отца.
Бикбулату очень понравился такой способ разрешения курить, он весело рассмеялся и полез за портсигаром.
— Курить ты научился. Это, конечно, достижение! А чему еще обучали тебя в городе?
— Многому, — уже без шуток ответил Бикбулат. — Красная Армия учит не только воевать, но и строить новую жизнь. Бить врага не только внешнего, но и внутреннего.
Старик плохо понимал сына, когда он заговаривал непривычным для него языком.
— Выходит, враг — это вроде казакина?
— При чем тут казакин?
— При том, что и у казакина есть внешняя сторона и внутренняя.
Бикбулат догадался, что старик пытается понять его и шуткой старается скрыть свое затруднение.
— Верно, — согласился Бикбулат. -Внешние враги — это капиталисты Англии, Америки, Германии, внутренние — кулаки, нэпманы.
— Это вроде наших Шарапов и Шангара- ее?
— Вот-вот, именно они!
— А ты, значит, приехал, чтобы с ними бороться, схватить этот казакин за ворот? Молодец! Погляжу я на тебя, как ты за это дело возьмешься!
— Зачем глядеть? Давай вместе бороться.
— В прежнее время я был боец, а сейчас поясница слабовата стала.
Уже сгустились сумерки, когда зашли Хасан и Салих. Бикбулат поднялся с места.
Старик остался с молодежью. Когда заговорили о воспитательной работе среди девушек, невольно всплыла история с Миньямал, хотя Хасану неловко было касаться этого случая.
Бикбулат одобрил их действия, однако заметил:
— Один раз — куда ни шло, а вообще такими способами не выберемся мы из старого болота. Не с одной Миньямал может случиться такое. А всех не увезешь. От волка не спасаются, бросая ему шапку, а хватают за горло. Трудности надо решать на месте. Нелегко, конечно, а научиться надо.
Молодые люди переглянулись. «Каким же иным способом, — подумали они, — можно было спасти Миньямал от грозившего ей несчастья? А если есть другой путь, то пусть старшие товарищи, коммунисты, расскажут нам». И оба вопросительно взглянули на Бик- булата. Но тот кратко ответил:
— Впереди нам предстоит не раз встречаться и беседовать. Не все, друзья, сразу. — И он обратился к Салиху: — Ты, видно, за письмом? Ну, угадай: от кого?
— От кого-нибудь из товарищей по техникуму, от кого же еще? Возможно, от Надрши- на, моего лучшего друга.
— А еще от кого?
Салих не знал, что ответить. Бикбулат покачал головой, — дескать, плохая у тебя память; и спросил, указывая на Хасана:
— При нем можно говорить? Вы закадычные друзья, вместе Миньямал спасали, у вас нет, наверное, тайн друг от друга?
Салих кивнул головой в знак согласия. У него не было тайн от Хасана, кроме, правда, одной, которую он глубоко прятал в своем сердце.
— Словом, дело было так, — начал Бикбулат. — На вечере смычки красноармейцев и учеников педтехникума твои товарищи расспрашивали о тебе, а один из них, твой друг, — подчеркнул Бикбулат, — вручил мне это письмо со словами: «Передайте Салиху Ягфарову».
Салих больше не спрашивал, он вспыхнул от неожиданной догадки. Взяв письмо, он, не читая, засунул его поглубже в карман и заторопил Хасана. По дороге домой он решил поделиться с Хасаном своей единственной тайной. Распечатал письмо и стал громко читать:
- «Салих! Тьма приветов!
В этом письме нет и сотой доли того, что заключено в моем сердце. Мы разъезжаемся на каникулы, — до осени я, к сожалению, ничего о тебе не узнаю. Но осенью обязательно напиши, только не в техникум, а по адресу снохи: Воскресенская, 19, Хажиахметовой, а в скобках не забудь написать «Корбанбикә Ал- лагуловой». В техникум не пиши — там много охотников посмеяться над чужим секретом. Я очень хочу получить от тебя письмо. Слышишь? Пойми это и постарайся понять из моего письма больше, чем в нем написано. Ладно?
Привет в квадрате. Татарка».
— Только и всего? — удивился Хасан.
До него не дошел истинный смысл письма, он ведь ничего не знал.
Но Салих почувствовал себя счастливейшим человеком в мире. Он простился с Хасаном и побежал домой, чтобы прочесть письмо наедине, и перечитывал его не раз. Потом схватил карандаш и начал рисовать прямо на письме ее портрет. Только ему никак не удавалось передать выражение глаз — рука еще не слушалась его.
10 Возле сельсовета остановился тарантас. Из него вышли два человека и скрылись за дверями канцелярии. Минуту спустя десятский сельсовета, размахивая прутиком, бежал по направлению к дому Халькеса. От Халькеса он поспешил к Салиху, потом к Хасану.
Придя в сельсовет, Салих увидел за столом рядом с Хакимом незнакомого человека. Второй приезжий рассматривал плакаты, сделанные Салихом.
— Вы звали меня? — спросил Салих, останавливаясь па пороге.
— Так это сын Шарипа Ягфарова?
— Он самый! — улыбнулся Хаким.
— Здравствуй! — поднялся человек из-за стола.
А Хаким проговорил:
— Знакомьтесь. Это товарищ Бахау, председатель волисполкома.
Салих поздоровался с Бахау. К нему повернулся и второй приезжий. Это был довольно полный, с широкими плечами мужчина в полувоенной форме. Он внимательно взглянул на Салиха и сказал:
— Ия знавал твоего отца. Настоящий был большевик.
Чувство гордости охватило Салиха, ему очень захотелось в эту минуту быть достойным отца.
Человек в полувоенной форме протянул ему свою руку и сказал:
— Казаков.
Бахау добавил:
— Николай Васильевич.
Салих догадался, что это секретарь кант- кома партии.
В это время вошли Хасан и вместе с ним Бикбулат. Бахау и их познакомил с Казаковым.
Бахау был словоохотлив и подвижен, Казаков же больше молчал и внимательно слушал. Правое ухо он поворачивал к говорившему, по-видимому, был несколько глуховат. «Скуп на слова», — подумал про себя Салих. Ему нравилось, что Казаков так прислушивается к тому, что говорят Хаким и Бикбулат, и горячо интересуется их делами.
— Мы у вас проездом, — сказал Бахау, — спешим в Ивановку и должны еще заехать к Куайры. У вас задерживаться не будем. Ни* колай Васильевич считает, что актив у вас сильный и вы сами управитесь с выборами в сельский совет, — при этом Бахау взглянул на Казакова.
— Правильно, — подтвердил Казаков.
— Председателем, — продолжал Бахау, — как мы уже договорились с вами, надо предложить Бикбулата. Ваш нынешний председатель Арслан не оправдал себя перед избирателями. Сначала он казался хорошим человеком, а затем сплоховал. Говорят, он не прочь отведать угощение Шарапов и Шангараев. Верно я говорю?
— Верно, — подтвердил Хаким.
Бикбулат подался вперед, как бы желая что-то сказать.
— Погоди! — остановил его Бахау. — Я знаю, что ты хочешь сказать. Дескать, ты еще молод, Хаким постарше тебя, и ему впору быть председателем. Так?
— Так...
— У Хакима работы хватит. Он секретарь ячейки.
А если народ не изберет меня?
— Не изберет? — Бахау несколько даже растерялся. — Почему же не изберет? Разве за тобой есть что-нибудь дурное?
— Как будто бы нет. Только ведь люди-то разные...
— Например? — вмешался Казаков.
Бикбулат помолчал, собираясь с мыслями.
— Я хочу сказать: у каждого свои мысли, свои взгляды. Вот пальцы на руке — и те неодинаковые.
— Я очень люблю народные поговорки, — сказал Казаков. — Но поговорку, которую ты сейчас упомянул, в последнее время очень часто употребляют люди, враждебные нам. Сейчас и в городе и в деревне существуют только два лагеря. В одном — кулаки, торговцы и их прихлебатели, а в другом — большинство — рабочие люди, батраки, беднота, середняки. Вот где главное различие. Если вы будете заодно с народом и твердо стоять за него — он изберет вас, всегда пойдет за вами.
Простота и сила, с которой сказаны были эти слова, захватили всех.
— Ясно! — взволнованно ответил Бикбулат.
А Казаков повернулся к внимательно слушавшим Салиху и Хасану.
— А вам я хочу передать привет от Агзам- ского, секретаря канткома комсомола. Он о вас не забывает. Да и мы в курсе ваших дел. Так что, ребята, не подкачайте!
Бахау еще раз проинструктировал собравшихся:
— Перед общим собранием созовите батраков и бедноту. Вызовите туда Арслана. Пусть отчитается в проделанной работе. Поговорите предварительно с отдельными крестьянами — разъясните, что кому неясно.
На прощание Казаков сказал:
— Ну, товарищи, дело за вами. Товарищ Сталин от нашего имени дал клятву у гроба Владимира Ильича. Будем же выполнять эту клятву.
Когда Казаков с Бахау уехали, Хаким сказал с гордостью:
— На нас надеются, в нас верят.
Хаким решил сам поговорить с Арсланом. Это было нелегким делом. Арслан уже два года как был председателем сельсовета. Вначале он работал усердно, держал себя честно, помнил, что народ его выбрал. А дальше стал на людей сверху вниз поглядывать. Потом начали замечать, что он захаживает к Шарапу и Шангараю, засиживается допоздна, выходит от них пошатываясь. В благодарность за угощение он то бумагу выдаст, из которой следует, что скота у них меньше, чем на самом деле, то насчет налога сделает поблажку.
В первое время, когда Хаким сурово предупреждал его, что дело кончится плохо, Арслан виновато опускал голову и клялся больше не повторять этого. В дальнейшем выслушивал упреки все более угрюмо и недовольно, бросая на Хакима злые взгляды. А сейчас уже открыто возражал, беря под защиту кулаков, прикрывая их преступные дела. Однажды Арслан с наглым видом заявил: «Не вмешивайся в мои дела. Я отвечаю не перед ячейкой, а перед миром». Он считал себя во всей деревне единственно достойным занимать пост председателя и рассчитывал, что будет им долго.
Когда Хаким зашел к нему во двор, Арслан чистил скребницей коня. Заметив гостя, он повернулся к нему спиной и, делая вид, что не видит его, начал разговаривать со своим конем:
— Стой смирно, рыжий, а то не возьму тебя с собой в гости к мельнику. По твоей вине, скотина, на меня легло пятно. Говорят, стоит мне сесть на тебя, как ты заворачиваешь куда не надо.
Хаким понял, в кого метит Арслан, но окликнул его, как ни в чем не бывало:
— Здорово, Арслан!
— А? — удивленно повернулся к нему Арслан, словно только сейчас заметил секретаря.
И тут же повел лошадь в сарай. Хаким спокойно ждал его. Минут через пятнадцать Арслан вышел из сарая и с деланой досадой хлопнул себя по лбу.
— Ну и память же у меня! Гость ко мне пришел, а я и забыл. — И добавил, не скрывая насмешки: — Пригласил бы тебя в горницу чаю пить, да, видишь, как назло, жены нет дома.
— Ничего, посидим во дворе, — сухо заметил Хаким и сел на одно из толстых бревен, в беспорядке валявшихся по двору. — Хотел я тебе сказать... — начал Хаким.
— Погоди! — остановил его Арслан. Он уселся рядом с Хакимом, снял с ноги сапог и принялся не спеша перематывать портянку. — Понимаешь, я думал, гвоздь торчит, оказывается... что бы ты думал? Вишневая косточка! С самого утра не дает покоя, проклятая! И откуда взялась эта косточка? Сроду вишни не было дома. А?
— Хватит! — внезапно изменившись в лице, резко оборвал его Хаким. — Брось свою вишневую косточку, а заодно и прочую чепуху! Завтра ты должен будешь сделать на собрании батраков и бедноты отчет о своей работе.
Арслан вскочил, как ужаленный.
— Отчет? Я?!
— Ты! — А зачем мне туда идти? Я не батрак и не наниматель батраков.
— Тебя избрали батраки и беднота.
Судорога прошла по лицу Арслана, рыжие усы его дрогнули над губой.
— Нет! — крикнул. — Нет! Слышишь, я говорю — нет! Меня весь народ избрал, вся деревня! Не буду я перед батраками отчитываться!
Спокойным голосом Хаким повторил:
— Нет, брат, отчитаешься. Этого требуют избиратели. Батраки, беднота, коммунисты, комсомольцы.
Арслан скривил рот:
— Комсомольцы?! Тоже! Вот как обложу я их десятину налогом, тогда узнают.
— Та-ак... — медленно сказал Хаким, раздумчиво глядя на Арслана. — Гляжу я на тебя, Арслан, и вижу — все глубже тебя засасывает. Предупреждал я тебя не раз, а все без толку. Смотри, Арслан! Не придешь на собрание — пеняй на себя!
Хаким встал и направился к выходу. Арслан забежал вперед и, загородив ему дорогу, стал кричать, размахивая перед его лицом руками.
— Ка-ак? Угрожаешь мне? В моем доме? Да знаешь ли ты, кто я? Я — власть! Власть, понимаешь? Я!
Хаким прошел мимо него и, обернувшись уже у ворот, сказал:
— Завтра вечером чтобы ты был в сельсовете.
Собрались вовремя. Последним приплелся Ташбулат. Он тихонько сел у самой двери, позади старика Халькеса, стараясь, чтоб на него поменьше обращали внимания.
Послали человека за председателем сельсовета и терпеливо дожидались его. Посланный вернулся и сказал, что Арслана нет дома. Снова послали человека, поручив ему дожидаться председателя. Человек вернулся с известием, что Арслан ушел к Шангараю.
Тогда слово взял Хаким.
— Товарищи, завтра будем переизбирать председателя сельсовета. Мы должны прийти на завтрашнее собрание с определенным решением. Арслан не пришел отчитываться в своей работе, видно, ушел на другое собрание — кулацкое. Ведь они тоже готовятся к завтрашнему дню. Что скажете, откроем собрание без Арслана?
— Он, может, совсем не придет, — его и ждать?
— Если бы хотел, давно бы пришел.
— Он нарочно не пришел, чтобы сорвать собрание.
— Давай начинай!
— Начать-то начнем, а по закону ли это будет?
— А закон-то чей?
— Наш закон...
Хаким поднялся из-за стола:
— Товарищи! Просит слова Салих!
Все заинтересовались: что скажет самый молодой из них?
— Агай! Пора бы расстаться со старым обычаем, когда вы собирались на сходки перед общественным амбаром. Если мы будем так шуметь, то не поймем друг друга.
Шум стал утихать.
— Я предлагаю для порядка, — повысил голос Салих, — избрать председателя и секретаря.
— Вот это верно! — крикнул кто-то.
И вправду, собрания с председателем и секретарем — порядок, введенный в последнее время, — проходили, как правило, очень хорошо. Так случилось и на этот раз. Хаким рассказал о работе сельсовета и о его председателе Арслане. Арслан вначале работал неплохо, а потом начал склоняться в сторону кулаков. Хаким рассказал о проступках Арслана, многие из них были всем известны: кулаки нарушают договоры, заключенные с батраками, а председатель смотрит сквозь пальцы на кулацкие проделки да еще дает им подложные документы. Конечно, виновата и ячейка, что терпела такое положение и не принимала решительных мер, ограничиваясь одними уговорами. Во всяком случае, теперь все выяснилось. Спрашивается, можно ли доверять такому человеку, как Арслан, можно ли оставить его председателем сельсовета?
— Если он будет председателем, то не для нас.
— У него один расчет — нажиться.
— От нас ему что за польза?
— А от баев если не течет, то капает...
— Не нужен нам такой председатель!
— Председатель сельсовета должен стоять за бедняков и батраков.
Собрание становилось все шумнее. Один Ташбулат молчал, уставившись в землю, ожидая, когда все кончится и можно будет уйти домой. Воспользовавшись шумом, он хотел было ускользнуть потихоньку, но старик Халь- кес молча схватил его за полу пальто и насильно усадил на место.
То, чего больше всего опасался Ташбулат, случилось: Хаким, заметив его безучастное лицо, спросил:
— А вы что скажете, Ташбулат-агай?
Ташбулат низко опустил подбородок в свой воротник, словно хотел совсем туда спрятаться.
— Что же ты молчишь? — подтолкнул его сосед.
Ташбулат пробормотал в ответ:
— Если не приду на собрание, ругаетесь, а когда приду, снова чем-нибудь недовольны.
— Халимулла-агай, — обратился Хаким к старику Халькесу, — может, вы что-нибудь скажете?
Халькес хотел отказаться, но, увидев, что все лица обращены к нему, поднялся с места.
— Эй, вы! — обратился он к тем, кто сидел у окна. — Отойдите от окна, а то откройте и дверь, — я не боюсь, как Ташбулат, что меня увидят здесь. И говорю я так не потому, что я стар и съел все, что положено мне в жизни, я говорю потому, что советская-то власть наша. Ну, скажите мне: наша она власть?
— Наша!
— А какой человек должен стоять во главе нашей власти?
— Наш человек!
— Теперь я скажу вам, кто такой Арслан. Всего-навсего горшок в наших руках. Захотим — поставим его на высокую полку. Если на этой полке кошка вылакает из него молоко, мы его спустим глубоко в погреб. А если и там он не спасет наше добро от крыс и мышей, мы возьмем да выбросим его. Вот как я думаю. Может, на собраниях не годится так говорить, так я уж по-стариковски, как умею. Теперь, прежде чем выдвигать нового председателя, хорошенько подумайте. Каждый день менять председателя тоже не дело.
После Халькеса никого уже не приходилось вызывать. Люди сами поднимали руки и просили слова.
Приступили к выдвижению кандидатур.
Хасан назвал Бикбулата. Все взгляды обратились к нему.
Бикбулат в военной форме сидел позади Хакима. Свет от свечи падал ему прямо в лицо. Освещенное до последней рябинки, оно было спокойно и мужественно. Бикбулат чувствовал на себе внимательные, изучающие взгляды. Он привык в Красной Армии, получая приказ, смотреть командиру прямо в глаза — эта привычка не изменила ему и сейчас. Это понравилось людям.
Расходились после собрания поздно. Во всех домах было темно, только в окне купца Шангарая был виден свет, — Бикбулат обратил на это внимание. Придя домой, он еще раз посмотрел в окно на дом Шангарая — света не было. Он перешел к другому окну, откуда виден был дом Арслана, — там зажегся. Через несколько минут загорелся свет в доме Шара- па и быстро погас. Старик Халькес, следя за тем, как сын переходит от окна к окну, хотел, по своему обыкновению, пошутить, но на этот раз удержался.
Бикбулат теперь совсем взрослый мужчина, а по башкирским понятиям и немолодой! Ему давно бы пора иметь жену и детей. А он об этом и не думает, другим забита его голова. Правда, старуха Маймуна рассказывала, будто Бикбулат встречается с Зульхизой, дочкой старика Валида, той самой, которая убежала от своего мужа, и будто бы они с юных лет связаны словом. Халькес знал, что не всегда новость, исходящая из уст Маймуны, оказывается ложью.
Наконец, Халькес не выдержал:
— Что ты все высматриваешь, сынок?
— У Шангарая огонь погас, у Арслана зажегся — это неспроста.
— А у старика Валида? — вырвалось у Халькеса.
Он хотел сказать: «У старика Шарапа», но невольно назвал Валида. Халькес тут же спохватился, но поправляться не стал. Бикбулат, решив, что старик нарочно пошутил, нашел, что шутка злая и, главное, не к месту, но промолчал.
11 В тарантасе, спускавшемся по дороге к Тополиному склону, сидели два человека — молодой председатель сельсовета Бикбулат и могучего вида седобородый старик.
— Петр Иванович, — обратился к старику Бикбулат, — не закурить ли нам?
— Это можно, — согласился тот и придержал гнедого. — За доброй беседой табак ■- первое дело. Это вон еще с каких времен ведется, — трубка мира, небось слыхал?
— Читал, — ответил Бикбулат, вынимая кисет и предлагая его старику.
С Петром Ивановичем Бикбулат познако- милея на кантонном совещании председателей сельсоветов, откуда они оба сейчас возвращались. Во время перерыва, когда Бикбулат стоял в коридоре, заложив ладонь за широкий солдатский ремень, к нему подошел красивый, широкоплечий старик и спросил радушно:
— Откуда будете, товарищ красноармеец?
Давно уже Бикбулата так не называли. Он невольно поднял руку, собираясь взять под козырек.
— Из Аккуяна. Бикбулат.
— А-а!. Мы, значит, соседи. Я из Александровки. Новичков.
— Товарищ Новичков?! Слышал я о вас, даже собирался к вам поехать, просить совета.
— Милости просим, гостям рады, особенно таким.
В это время к ним подошел Казаков.
— Эх, жаль, что нет тут нашего фотокорреспондента! — воскликнул он. — Прекрасный снимок был бы для нашей кантонной газеты. Самый старый председатель сельсовета беседует с самым молодым. — И, взяв обоих председателей под руку, Казаков прошелся с ними по коридору. — Договаривайтесь, товарищи председатели, держите связь. Ваш опыт, Петр Иванович, ему сейчас очень бы помог. Да и у него, молодого, думаю, можно кое-чему поучиться. Человек военный, дисциплинированный, есть что позаимствовать, а, Петр Иванович?
Новичков молча склонил голову, — видно, не раз ему доставалось от Казакова.
— Значит, будете дружить?
— Не сомневайтесь, Николай Васильевич, дружить будем. Когда он сказал, что приехал из Аккуяна, вспомнил я Шарипа Ягфарова. Он ведь родом из их деревни. Мы с ним вместе в 1914 воевали, в германскую войну. А потом встретились в Чапаевской дивизии, там- то наша дружба и окрепла. У нас в дивизии много было башкир. Вот наш народный комиссар внутренних дел Шагит Худайбердин тоже воевал в Чапаевской дивизии. В прошлом году приехал я по делам в Уфу, зашел к нему. Был я в штатском, так он сразу и не признал меня. «Ваше лицо, говорит, очень мне знакомо, только никак не вспомню, где встречались». А я ему: «Вообразите, говорю, товарищ народный комиссар, на голове моей папаху, да на ремне подсумок, да бороду мою пострашнее да почернее». Он как вскочит: «Новичков!» Обнялись мы с ним, вспоминать стали прошлое, до рассвета сидели. Вон откуда еще дружба наша ведется. А дальше ей конца и краю не будет!
Казаков пожал руки обоим председателям и поспешил в зал, где возобновлялось заседание.
Бикбулат внимательно слушал доклад Казакова, который казался ему продолжением беседы с Новичковым.
— Классовый враг прибегает к различным средствам, чтобы повредить нам, сеет рознь среди людей разных национальностей, пытается разрушить солидарность народов нашей страны, используя религиозные и национальные различия.
— Верно, — подумал Бикбулат, — царская власть угнетала все народы: и русских, и украинцев, и башкир, а советская власть освободила их. В нашем полку были и русские, и украинцы, и чуваши, и казахи, и башкиры — и все дружили, и путь этой дружбе открыл русский народ. А Шангараи и Шарапы хотят помешать этой дружбе...
Бикбулат крепко сжал кулак.
... Тарантас подъехал к развилке дороги — одна вела налево, в Аккуян, другая — направо, в Александровку. Лошадь остановилась.
— Видно, Петр Иванович, ваш конь не хочет меня дальше везти. Так и быть, слезаю.
Новичков рассмеялся, показав крепкие, крупные зубы.
— Сиди, сиди, я тебя завезу.
— Нет, я все-таки слезу. Уже темнеет, а у вас еще восемь верст впереди. Я и пешком дойду.
— Как хочешь! — не стал настаивать Новичков. — Тогда закурим по последней.
Бикбулат соскочил с тарантаса, вытащил из кармана кисет, положил его на козлы -■ оба путника не торопясь стали свертывать папиросы.
— Твой мулла, как ты о нем рассказывал, точь-в-точь похож на нашего попа. А в общем, — подытожил Новичков дорожный разговор, — положение в наших деревнях сходное: сидит кулачье и тут и там, действует одинаковыми приемами, можно подумать, что сговорились.
Возможно, — заметил Бикбулат.
— Давай и мы держать связь, поддерживать друг друга.
Они крепко пожали друг другу руки.
Новичков стегнул гнедого и скрылся за поворотом, а Бикбулат медленно пошел своей дорогой. Тени от ив, росших по ту сторону реки, падали на поверхность воды, придавая ей коричневый оттенок. Веял сухой ветерок, предвестник осени. Бикбулат взглянул на свои запыленные руки, подошел к берегу, скинул с себя гимнастерку и долго с наслаждением обливался холодной, бодрящей водой. Посвежевший, он быстро зашагал по дороге.
Приближаясь к селу, он вспомнил Зульхи- зу. Не то в шутку, не то всерьез она сказала, что будет встречать его. Хорошо бы ее сейчас увидеть и отдать подарок — шелковый головной платок. «Смелая она!» — восхищенно подумал Бикбулат. Она писала ему еще в Уфу, что к его возвращению с военной службы, она уйдет от мужа и будет дожидаться его в отцовском доме. И сдержала свое слово. Старшие братья, когда она вернулась домой, накинулись на нее с бранью и побоями, требовали, чтобы она вернулась к мужу. Но Зульхиза наотрез отказалась.
— Хватит и того, что вы насильно отдали меня замуж за ненавистного мне человека, — сказала она. — Не знала я тогда, что у меня есть защита. А сейчас знаю. Так что вы смотрите, поберегитесь!
— Кто же твой защитник? — оторопели братья после такой неслыханной речи.
— Советская власть! — ответила девушка и сказала это таким твердым голосом, каким еще никогда не говорили женщины в Аккуяне.
«Сегодня в волости, — вспомнил Бикбулат, — особенно много говорили о правах женщины. — И, конечно, он, Бикбулат, должен защищать права не только своей Зульхи- зы, но и всех женщин в деревне. Правда, это дело не простое, тут нужно умело подойти, чтоб не наломать дров. Правильно сказал на совещании Агзамский: «Колчака, Юденича, Дутова мы одолели оружием. А в быту старое пиками не прогонишь». Хорошо сказал, умница!» Когда Бикбулат подошел к подножью Тополиного склона, совсем стемнело. До деревни оставалось идти еще добрые три версты. Бикбулат свернул на боковую тропинку и ускорил шаг. Вдруг он заметил, как невдалеке, за грудой кизяка, мелькнуло что-то белое.
— Ялман!1 — крикнул Бикбулат, голос его прозвучал в тишине неожиданно громко.
— Ялган! — осторожно ответил ему чей- то насмешливый голос.
Бикбулат остановился.
Из-за груды кизяка показалась легкая тень и тотчас же спряталась. У Бикбулата забилось сердце — он узнал Зульхизу, осторожно подошел к ней.
— Зульхиза, ты?
— Я.
— Почему ты здесь?
— Поджидаю тебя.
— Откуда ты знала, что я сверну на эту тропинку?
Зульхиза засмеялась тихо-тихо, будто хотела сберечь свой голос.
— Душа чувствовала, сердце подсказало.
— Смелое у тебя сердце...
— Ха! Разве это смелость?
Они спустились к самому берегу реки и, усевшись под ивами, долго молчали, взволнованные встречей, подыскивая теплые, ласковые слова, чтобы сказать их друг другу.
— Возьми, — сказал наконец Бикбулат и протянул ей платок.
В темноте Зульхиза не могла его разглядеть, но почувствовала под ладонью, что он шелковый и с кисточками.
— Зачем нам скрываться от людей, Зульхиза?
— А разве обязательно нужно встречаться средь бела дня? Я ведь не учительница. А потом ты сам знаешь, какие у меня братья!
Зульхиза тесно прижалась к Бикбулату.
— Ты меня любишь, Бикбулат?
— Зачем ты спрашиваешь? Я сказал тебе об этом еще три года назад. Если хочешь, могу повторить. Могу без конца повторять.
Положив руку ему на плечо, Зульхиза сказала ему то, о чем много и мучительно думала:
— Ты, Бикбулат, уже не мальчик, но все- таки еще неженатый, за тебя любая девушка пойдет. А я хоть и моложе тебя, но уже была замужем.
— Я не променяю тебя на тысячу других.
— Почему?
— Так слушай! Во-первых, потому, что ты лучше всех, во-вторых, красивее всех, в-третьих, умнее всех, в-четвертых, смелее всех.
— И это все, что ты хотел сказать?
Зульхиза громко рассмеялась, словно ей хотелось подтвердить, что она действительно смелая.
— Когда ты мне сказал «слушай», я ожидала услышать целую речь, а оказалось, что ты вроде как цыплят считал: раз, два, три, четыре...
— Что же мне еще сказать?
Зульхиза подняла голову, и Бикбулат увидел в темноте, что глаза ее печальны.
— Ты знаешь, как у нас относятся к женщине, ушедшей от мужа?
— Знаю! И могу долго-долго говорить об этом.
— Рассказывай долго-долго. — И Зульхиза добавила, растягивая слова: — А я буду тебя слу-шать, слу-шать!
— Да, у нас смотрят косо на женщин, ушедших от мужей. Й неправильно! Сейчас подобные случаи нередки. Сколько девушек отдали замуж против их желания. Хочет она или не хочет, ее на всю жизнь приковывали, как цепью, к тому, кто ей не мил, кто ей противен. Разве это брак? Это насилие. Революция свергла насильников и угнетателей. И теперь, после революции, наши женщины хотят жить по-новому. Только надо быть смелее. Почему не нравится мне Ташбулат-агай, хотя он наш брат, батрак? Позовет его к себе кулак — он покорно пойдет, прогонит — безропотно уйдет, снова покличет — он снова пойдет на зов. Права ему дали, человеческое достоинство вернули, а он боится пользоваться плодами революции, въелось в него рабство. Придет время, он тоже поднимет голову, вот увидишь. Так и женщины: многие еще живут в кабале, не зная своих прав. В будущем, Зульхиза, этого не будет. Юноши и девушки соединятся, узнав и полюбив друг друга, и будут они жить до самой смерти в любви и добром согласии. И мы с тобой, Зульхиза, счастливо проживем нашу жизнь. А сейчас дадим друг другу слово, что ни я, ни ты ни разу не вспомним, что ты была замужем и ушла от мужа.
— Как ты красиво говоришь! Должно быть, оттого, что ты много книг прочитал, а может, оттого, что ты очень умный!
— Ни то, ни другое.
— Отчего же?
— Оттого, что я говорю искренне.
— Бикбулат! А когда мы заживем вместе?
Она сказала об этом так просто, словно спросила, будет ли завтра дождь.
— Придется немного потерпеть, — ответил задумчиво Бикбулат, — совсем немного. Управлюсь только с делами.
— Какие же у тебя дела?
Бикбулат оживился и, даже забыв, что их могут подслушать, громко заговорил.
— Дела-то, знаешь, какие? Надо прежде всего навести порядок в кооперативе. Потом- вспомни-ка канцелярию сельсовета: ведь туда зайти нельзя. Пора бы и что-нибудь вроде клуба построить, а то ведь все больше народу начинает интересоваться общественными делами, и надо им где-то собираться. Но это, в конце концов, дела второстепенные. А главная задача — объединить бедноту и середняков.
Зульхиза даже привскочила.
— Как?! Пока не закончишь всех этих дел, мы не поженимся?
Бикбулат усадил ее и привлек к себе.
— Хоть завтра сыграем свадьбу, если хочешь. Позовем твоих родных, Хакима, Хасана, Салиха.
— А муллу?..
— Нет уж, Зульхиза, наша новая жизнь не нуждается в благословении муллы.
— Брак без муллы — грех.
— А грех можно посадить на кол!
— Так только в песне поется.
— Разве плохо жить, как в песне?
Они поднялись и, обнявшись, медленно пошли по пустынному переулку. С одной стороны дороги тянулся длинный плетень, с другой громоздились кучи кизяка и золы. Влюбленные прошли уже больше половины переулка, как вдруг над их головами просвистел камень и упал, шлепнувшись, за плетнем. Едва они успели пригнуть головы, как пролетел второй камень. Бикбулат заслонил собой Зульхизу. Третий камень ударил ему в грудь с такой силой, что Бикбулат зашатался и прислонился к плетню, чтоб не упасть.
— Мы погибли... — прошептала в отчаянии Зульхиза.
Бикбулат, хоть и был совершенно безоружен, быстрее кошки бросился к тому месту, откуда летели камни. Тотчас же послышался топот нескольких пар ног. Бикбулат постоял немного, прислушиваясь к удавлявщемуся шуму шагов, потом вернулся к Зульхизе.
— Зульхиза! — сказал он громко. Он хотел, чтобы те, кто их сейчас подслушивает, знали, что он не скрывает своих отношений с ней.
— Это мои братья, да? — прошептала Зульхиза, дрожа всем телом.
— Нет, это не они, — ответил Бикбулат. On не только хотел успокоить съежившуюся от страха женщину, ему важно было объяснить ей нечто весьма серьезное. — Нет, это не твои братья, — повторил он. — Они не скрылись бы и не бежали от нас, не действовали бы из-за угла. Они вышли бы нам навстречу. А те люди, которые хотели нас убить, — враги народа и ополчаются против всей нашей свободной жизни.
Бикбулат, взяв Зульхизу под руку, шел с ней по самой середине улицы — пусть все видят! Он довел ее до самых ворот и только тогда пошел к себе домой.
Боль в груди не давала ему спать до утра. Он поднялся с постели, еле удерживаясь, чтоб не застонать, однако превозмог боль и никому из домашних ничего не сказал. Правда, мать, глядя на него озабоченными глазами, спросила:
— На заре, сынок, ты что-то стонал. Уж не заболел ли?
— Со сна, должно быть, — сказал он, пожав плечами, но встал из-за стола, почти ничего не отведав.
Взглянув на себя в зеркало, он успокоился: на вид он был бодр и здоров, только веки чуть покраснели.
По дороге в сельсовет Бикбулат увидел Шангарая. Купец стоял у ворот своего дома и издали встретил его заискивающей улыбкой.
— Красиво шагаешь, председатель, гордо! Как и подобает начальнику! Вот ведь куда идут дела!
Бикбулат ничего не ответил, только слегка тряхнул головой, так что нельзя было понять: здоровается ли он или отмахивается от льстивых слов Шангарая? Зайдя в канцелярию, Бикбулат с удовольствием отметил, что полы были чисто вымыты и во всем чувствовался образцовый порядок. На стенах висели новые плакаты, аккуратно сделанные надписи: «Председатель», «Не курить». «Работа Салиха», — догадался Бикбулат.
Шангарай, вошедший вслед за Бикбула- том, подобострастно дожидался, когда председатель сядет, и только тогда подошел к столу.
— Что угодно? — спросил Бикбулат, взглянув прямо в глаза Шангараю.
— Ой, какой! Прямо в глаза смотрит человеку! Видно, так надо, так надо...
— Что угодно? — повторил Бикбулат.
— Строго разговариваешь, сухо... «Что угодно»! Где же это видано, чтоб человок прямо начинал с того, что ему угодно!
— Как же иначе? Сказки, что ли, друг другу рассказывать?
— Ох, и похож ты на своего отца! Вылитый Халимулла-агай! У него тоже язык острый. Так и режет. Как сейчас помню, пришел он ко мне как-то в лавку за сахаром. Положил я на весы сахар — смотрю, не тянет, добавил — опять не тянет. «Что такое?» — думаю. Смотрю — рядом с гирей зуб от бороны лежит. «Как он сюда попал?» — говорю. А старик отвечает: «Он пришел укусить тебя за то, что ты обвешиваешь народ». А сам смеется. Я тоже посмеялся вместе с ним, очень уж мне понравилось, как он сказал. Я ему тогда свесил с походом. Ведь вот он какой, твой отец, Халимулла-агай.
— Давай покороче, — жестко заметил Бикбулат. За все время он ни разу не улыбнулся.
— И что ты за человек! Не дашь поговорить, когда душа просит...
— Говори, с каким делом пришел.
— Это верно. Дело у меня к тебе есть. Только не знаю — говорить или не говорить?
— Тогда не мешай работать.
— Ладно, быть по-твоему, скажу. Очень я, видишь ли, за народ болею, потому и пришел. Я насчет мельницы... Давно, если помнишь, предупреждал я вас: «Не доверяйте Прохар- чуку, обманщик он». Прав я оказался? Прав. И Прохарчук и семья его, и корова, и свинья- все, кому не лень, зерном пользовались. Накладно было людям молоть у него зерно. Спохватились вы, убрали Прохарчука — хвалю я вас. Вон куда идут дела!
— Давай покороче.
— Могу покороче. Словом, хочу пойти народу навстречу, бедным людям пользу принести. Так и быть, согласен на эту обузу — беру мельницу в аренду. Мельницей займусь. А торговлю брошу, шайтан ее возьми!
— Все?
— Все. Ты просил покороче, я и сказал покороче.
— Бикбулат ответил:
— Поговорю с народом.
— Народ народом, а сам-то ты как смотришь?
— Как я смотрю? Хочешь знать? — и Бикбулат улыбнулся недоброй улыбкой.
— Хочу! Ценю твое мнение! — и Шангарай, сладко улыбаясь, прижал обе руки к груди.
Бикбулат встал, вытянулся во весь свой рост, подошел к окну, распахнул его и показал пальцем в сторону переулка, по которому они вчера шли с Зульхизой. Затем, резко повернувшись, взглянул прямо в глаза лавочнику, точно ударил его по глазам, и крикнул.
— Ну?!
Шангарай побледнел, стал пятиться к дверям и выскочил на улицу.
Целый день в сельсовете было людно. Приходили посоветоваться, разрешить спор, написать бумагу, пожаловаться, а то и просто так посудачить.
Вечером Бикбулат рассказал Хакиму, Хасану и Салиху о совещании в волости. Передал и свой разговор с Новичковым. Над селом Александровкой шефствует один из городских заводов. Приезжали с завода люди, организовали библиотеку, отремонтировали сельскохозяйственный инвентарь. Хорошо, если бы и над Аккуяном взяли шефство. Он, Бикбулат, думает: не написать ли письмо политруку воинской части, где он служил? Что скажут на это товарищи?
Пока Хасан высказывал свои соображения, Салих подумал: «Предложу-ка я в шефы наш техникум. Чем плохо? Надршин приехал бы, Искандер и, кто знает, может, и Корбанбикә». Тут Салих решил лучше не соваться со своим проектом: чего доброго, подумают — не из-за Корбанбикә ли он это предложил. А кроме того, сто верст расстояния и без железной дороги! Слишком далеко.
Когда договорились насчет шефов, Бикбулат сказал:
— Сказать вам одну тайну?
— Говори.
— Вчера я возвращался поздно домой...
— Не без веской причины, конечно, — лукаво заметил Хаким.
Все улыбнулись.
— Ив переулке Батрши на меня напали...
Улыбка сбежала с лица Хакима, остальные переглянулись.
— Напали? Что же ты раньше не сказал? Кто?
— Кто и по какой причине, об этом можно только догадываться. Запустили в меня несколько увесистых камней. Один угодил мне в грудь, если бы попал чуть выше, плохо бы мне пришлось. Ну, товарищи, как вы расцениваете этот случай?
Хасан, который связывал это дело с Зуль- хизой, сказал со смехом:
— Расцениваю в полторы цены, в полтора пуда гороху.
Но по нахмуренному лицу Хакима он понял, что шутка его неуместна. Хаким обратился к Салиху:
— Хасан дает этому делу всего полторы цены. А ты что скажешь?
— Цена этому делу серьезная, — ответил Салих. — Однако раз враг нападает из-за угла, значит он нас боится.
Бикбулату понравился ответ Салиха, но он не спешил со своими соображениями, ожидая, что скажет Хаким.
— Салих прав. Они боятся встретиться с нами лицом к лицу. В данном случае, однако, важно не то, что они боятся, а то, что они нападают. Они не хотят примириться с нашей властью. Раньше, когда шла борьба за советскую власть, они поднимали па нас свои винтовки. Сейчас они эти винтовки укоротили — их называют обрезами. Вы помните, как они напали на отца Салиха и отняли у него револьвер? Значит, им нужно оружие. Будем же, товарищи, бдительны. Предстоит схватка — и не на шутку.
Хаким остановился и взглянул на дверь — ему послышались шаги. Бикбулат подошел к двери и открыл ее. Вошел Халькес.
— Отец? — удивился Бикбулат.
— Странно, как это ты меня узнал. А ты кто же будешь? Неужели мой сын? Не уверен я, забыл, как лицо твое выглядит. — И Халькес обратился к остальным. — С солнцем уходит, с луной возвращается, а то и всю ночь здесь пропадает.
Но, увидев озабоченные лица, он умолк, потом спросил:
— Что вы все такие серьезные сегодня? Нет ли беды какой?
— Нет-нет, — поспешно сказал Хаким, — ваш сын, Халимулла-агай, рассказывал нам про свою поездку в волость, и мы слушали.
— Я, выходит, прервал... Ну, продолжай, сынок, с удовольствием послушаю, если не помешаю...
— Будьте гостем, садитесь, — и Хаким любезно пододвинул старику табуретку.
Бикбулат стал рассказывать про свое знакомство с Новичковым, и, кстати, передал привет Салиху.
— Он дружил с твоим отцом и очень гордится этой дружбой.
— О-о! — протянул старик Халькес, когда Бикбулат кончил. — Дружба русских с башкирами исстари ведется. Могу рассказать вам про нее быль, похожую на сказку, если только не скучно вам будет и время есть.
— Расскажите, Халимулла-агай! На сегодня мы все дела закончили, а послушать вас — всегда удовольствие, — и Хаким увеличил огонь в лампе.
— Сказку эту я слышал много раз, разные люди по-разному ее сказывают, одни — долго, другие — коротко, сэсэны ее поют, сказочники сказывают. А суть у всех одна.
Жил-был простой крестьянин, такой же черный, как я, а некоторые говорят — кузнец. И называли его Пугач, что по-русски значит страх наводящий. При одном его имени дрожала вся царская империя и сама царица Екатерина на своем троне. Обращались к нему еще так: «Царь-государь!» Одни думали, что он в самом деле царь, с боярами да с князьями рассорился и на сторону простого народа перешел, другие говорили, что хоть он родом и не царь, да получше царя дворянского по уму, по храбрости, по силе своей. И был он великий защитник народа.
В ту пору услышал про него башкирин Салават Юлаев, и как услышал, собрал он джигитов, молодцов, один к одному, не пропустят которые сокола в небе, оленя на земле, щуки в реке, в огне они не горят, в воде не тонут, — собрал их и пошел к Пугачу. «Царь- государь, говорит, возьми нас к себе, поможем мы тебе прогнать с нашей земли врагов, ненавистных народу».
А царь Пугач ответил: «Идите, сынки, под мои крылья, будете верой-правдой служить мне — сила ваша удвоится, храбрость утроится, здоровье учетверится, а слава о вас дойдет до правнуков ваших на тысячу тысяч лет. Мои обещания, указы и манифесты не те, что у старухи царицы; то, что обещано мною, подобно выпущенной стреле: рано или поздно дойдет она до цели, а назад не вернется».
Присоединились джигиты Салавата-батыра к орлам Пугача-батыра и принялись преследовать войско злобной царицы-старухи. Много земель прошли они вместе, и реки глубокие, и горы высокие, и леса дремучие, — очистили земли башкирские от царской нечисти, дошли до реки Яик.
Тут позвал царь Пугач Салавата-батыра к себе и говорит ему: «Ну-ка, сынок, возьми свой курай и спой мне на прощание башкирскую песню, да такую, чтоб, слушая ее, ветер перестал дуть, а река течь, а птица лететь». Взял Салават-батыр свой певучий курай, висевший рядом с саблей острой, прикоснулся к нему губами и заиграл. Далеко кругом тихо стало, и ветер перестал дуть, и река течь, и птица замерла на лету, прислушиваясь к дивной песне. Слушал царь Пугач, опустив голову, а когда кончил Салават, сказал: «Спасибо, сокол! Хорошая песня, не забуду ее. А сейчас ступай в мою конюшню, помаши арканом, позвени уздой, — какой конь на тебя посмотрит, того и бери на память обо мне. Возьми еще три пушки и возвращайся к себе на башкирскую землю! Прощай, сынок, будь жив и здоров!» Посмотрел тут Салават-батыр в глаза царю Пугачу и сказал с тоской: «Я, царь Пугач, пойду с тобой до конца, куда ты, туда и я, и нет у меня иного пути, кроме как с тобой. Дозволь же, царь-государь, мне и джигитам моим остаться с тобой. Не отстанем мы от русской силы, будем бороться за народ, будем служить тебе до последней капли крови. Не оставим мы вас, и вы нас не бросайте».
Царь Пугач поглядел ласково на Салавата-батыра и сказал ему: «Спасибо, сынок, за доброе слово. Знал я, сокол, каков будет твой ответ. Есть среди нас черные души. Шептали они мне: не пойдут, дескать, с тобой башкиры далеко, — лишь только вызволят свой Урал, повернут обратно. Не верил я этим черным душам, не склонялся к их низким наветам, знал я, что башкиры верные друзья русского народа...» Не успел сказать Пугач эти слова, как подбежал воин, весь в пыли, и доложил: «Со стороны Яика движется вражеское войско». Крикнул тут Пугач могучим голосом: «Садитесь на коней, седлайте и моего скакуна! А ты, Салават, будешь со мной рядом». Тут все — русские, чуваши, мордва, башкиры и другие вольные люди — вскочили на коней и, как стая беркутов, понеслись на вражеское войско, похожее на стаю воронов. Семь дней и семь ночей, не зная страха и усталости, бились воины Пугача и джигиты Салавата с войском царицы-старухи. На восьмой день взошедшее солнце увидело войско Пугача на вершине горы, а у подножья — трупы царского воронья.
А когда пришла черная беда, когда силой и хитростью одолела Пугача царица-старуха, сказали царицыны холуи Салавату-батыру: «Отрекись от Пугача, скажи, что он обманул тебя, и будут тебе дарованы жизнь и богатство». С презрением взглянул Салават-батыр на царских псов и сказал: «Никогда народ башкирский не изменит русскому. Друзья мы с Пугачей, и никто нашей дружбы не разрушит».
Бросились тут царские палачи на Салавата-батыра, каленым железом пытали, нос, уши отрезали. Ни слова, ни стона не издал Салават-батыр, так и остался верным Пугачу до конца. Вон с каких времен идет дружба башкир с русскими...
12 Свистит пронизывающий ветер, крутит мелкие, как игольное ушко, дождевые капли. Дни становятся все непригляднее, ночи темнее. Приближается зима. Люди уже обмолотили хлеб; одни обошлись своими силами, другие позвали на помощь соседей. Многие, в предвидении тяжелой зимы, потянулись в город на заработки, забрав с собой семьи — в деревне немало домов опустело.
Салих заготовил сено для жеребенка, собрал урожай проса, но этого запаса не хватило бы и до середины зимы. Дров тоже мало. Не весело было Салиху. После того как мать свезли к врачу, ей на время полегчало, но потом она снова стала прихварывать. Говорила Тазкире, что делать по хозяйству, но сама не в состоянии была помочь, и это ее очень удручало. Подолгу смотрела на детей, словно прощалась с ними. Врач, выслушав ее в последний раз, молча покачал головой. Он сказал на прощание, что больная, может, и поправится, но видно было, что сам он не верит своим словам.
Не раз мать повторяла Салиху;
— Береги, сынок, сестер!
В один из таких тяжелых дней зашел учитель Гильман. Салих вместе с ним обучал грамоте взрослых. Гильман был человек думающий, поддерживал то новое, что принес с собой советский строй, но был слишком уж мягким, слабохарактерным. Всю жизнь ему внушали смирение, а когда он окончил медресе, его заставили внушать другим это же смирение. И теперь ему трудно было сразу встряхнуться и вырвать это годами въедавшееся в душу чувство покорности.
Бывало, когда дела с кулаками принимали крутой оборот, учитель предпочитал отойти в сторону.
— Как ни говори, я ведь человек из другой деревни, не на кого мне здесь опереться, -■ оправдывался он.
Хаким как-то сказал ему:
— Хоть ты и из чужой деревни, но ты человек нашей власти.
Эти слова произвели на учителя сильное впечатление. Он долго ходил, переживая их, вздыхал и качал головой. А однажды на сходке бросил по адресу богатеев пару крепких слов. Потом был и доволен и недоволен своей смелостью, и гордился собой, и жалел о том, что сказал. Его жена, кроткая и тихая Гульсум, души не чаяла в своем муже. Вечерами, когда Гильман, надев старые, связанные ниточками очки, принимался за чтение или письмо, Гульсум ходила, ступая неслышно, как кошка, и шептала детям:
— Ш-ш! Отец пишет!
Она не подпускала его к работе, требовавшей хоть какого-нибудь физического усилия. Подметать двор, чистить хлев — это было ее делом. Ей казалось, что стоит ему взять в руки лопату или вилы, как руки его огрубеют и потеряют способность владеть такими изящными вещами, как карандаш или ручка.
Гильман был страстным охотником до чтения, но книги, которые лежали у него дома, — учебники, брошюры, инструкции отдела просвещения — он прочел уже раз по десять, а других книг взять было негде.
Он все еще ходил одетый как хальфа — учитель в старом медресе. Многие и называли его «хальфа», другие — «учитель». Свое имя и фамилию он слышит только тогда, когда кассир вручает ему зарплату. Да еще председатель волисполкома называет его Гильманом Закировичем. Тогда он вспоминает, что отца звали Закиром, и ему бывает приятно.
Пришел он к Салиху, который годился ему в ученики, потому что страстно стосковался по хорошей беседе. Он зашел к Хакиму, но того не оказалось дома, и тогда Гильман решил зайти к молодому комсомольцу.
Салих в этот момент рисовал заголовок для стенгазеты. Он кинулся навстречу учителю и со всем уважением, которого заслуживал гость, сказал:
— Рады вас видеть в нашем доме, Гиль- ман-абзый, проходите, пожалуйста.
— К тебе я пришел, мой молодой ученый друг, к тебе, — сказал Гильман и протянул вперед руку, будто говоря: «Не беспокойся, продолжай свое дело».
Тазкира предложила ему старую подушку с торчащим отовсюду пухом. Гильман отодвинул подушку в сторону и сел на разноцветный палас. Он не помолился, как принято было поступать почтенным людям, заходящим в дом, а по новому обычаю снял свою шляпу, обнажив редкие волосы.
Мать Салиха прижалась поближе к печке, то ли чтобы освободить гостю побольше места на нарах, то ли от робости. Осведомившись о здоровье домашних, Гильман произнес довольно длинную речь, прозвучавшую как притча.
— Как-то встретился я на улице с Хакимом, и он остановил меня. «Учитель, — сказал он мне, — тебе надо быть ближе к народу, прислушаться к тому, что он говорит». Я пришел домой и долго сидел, обдумывая его слова. Начал прислушиваться к тому, что говорит народ. И больше всего меня поразили слова кузнеца Халькеса. Удивительный старик! Он ничего не скажет прямо, все обиняками, но то, что он говорит, мудро. И на этот раз начал он издалека, а о чем будет идти речь, предоставил Догадываться мне самому.
«В долине нашей реки Тук, — начал он свой рассказ, — жил некогда человек по имени Солтан. Он носил длинную бороду, одет был в зеленый елэн *, а глаза его смотрели сквозь очки, черные, как сажа. Бывало приходит он в деревню и видит: люди плачут, за неуплату налога отбирают у них последнюю скотину или единственный самовар. Напишет тогда Солтан жалобу куда надо, и случалось, хоть и редко, что приходило облегчение. Да не в этом было дело, а в том, что человек хотел народу помочь. Людям, которые в остроге 1 Елэн — летнее платье. по десять лет валялись, не зная причины, Сол- тан помогал выяснять что к чему, требовал ускорения дела. На всю область реки Тук Солтан был единственный человек, который знал законы. Служил он у волостного старшины писарем и втайне от старшины, чем мог, помогал народу. Всякий человек может добро сделать, если только крепко захочет.
Умер Солтан за год до свержения царя, так и не дождался, бедняга, вольного времени. Пришел он как-то в нашу деревню, захворал неизвестно чем и на другой день умер. Плакали люди, как маленькие дети. Тело четыре дня держали в доме, все мулла запрещал хоронить его на кладбище. Потом положили труп на телегу и долго возили, не зная, где вырыть ему могилу. Наконец, похоронили возле тропы, по которой женщины ходят за водой к роднику у Тополиного склона. Сердце у женщины мягче, чем у мужчины, да и любили они старого Солтана! Не было случая, чтобы женщина, идя по воду, не положила камня около его могилы. Двадцать пять, а то и тридцать женщин ходят каждый день по Тополиному склону, — за лето выросла вокруг могилы Солтана каменная ограда. Если сделаешь добро народу, он его не забудет. Не об этом ли говорили в старину: «Сделай добро и брось в воду — народ узнает, народ не узнает — рыба узнает». Каждый год, как наступает весна, прохожие бросают на могилу Солтана зерна овса, льна или мака, и всегда она бывает в зелени и в цветах и издалека привлекает взор путника».
Гильман замолчал. Молчал и Салих. Таз- кира собралась было поставить самовар, но Гилман отказался. Он напялил свою шляпу и, кивнув на прощание головой, ушел.
Салих понял, что учитель не находит себе места и мечется потому, что в нем сейчас совершается большой духовный переворот. Салих обрадовался: теперь у них будет еще один верный помощник. Мать, польщенная приходом почтенного человека к ее молодому сыну, в этот вечер чувствовала себя лучше, чем обычно.
13 Салих вскочил с постели и подбежал к окну. Земля и крыши домов были покрыты тонким слоем снега, порозовевшем в лучах восходящего солнца. Пробуждалась жизнь. Мычал скот, люди выходили из ворот, дым валил из труб. Хороший будет день!
Салих взглянул на нары: Тазкира и Васима спали, обнявшись. На месте, где обычно лежала мать, стоял сундук, покрытый само- тканным ковриком. У Салиха сжалось сердце.
Уже две недели, как они похоронили мать. Жена Хакима, Забира, мать Хасана и Зуль- хиза бывали у них целыми днями, сменяя друг друга, чтобы не оставлять сирот одних с их горем. По совету жены Хакима, на месте, где спала покойница, поставили сундук.
— Пусть это место не пустует и не напоминает вам постоянно, что тети Хупьямал больше нет.
Сама же Забира и прибрала угол, где лежала мать.
Многие почтенные люди советовали Салиху поскорее жениться, иначе, говорили они, хозяйство совсем развалится.
Хаким и Бикбулат на этот счет больше молчали, а если их спрашивали, говорили:
— В таком деле трудно дать определенный совет.
«Как же быть? — ломал себе голову Салих. — Все женятся. Одни это делают раньше, другие позже, как, например, Бикбулат».
Прежде сыновей женили их родители. А Салиху придется самому этим заняться. К кому же посылать сватов? Салих стал припоминать знакомых девушек и в своей и в соседних деревнях. Слов нет, красивые девушки, есть среди них очень умные, есть ловкие и расторопные хозяйки. Да и Салих, если на то пошло, не последний парень в селе! За чем же дело стало? Хасан — и тот не далее как вчера об этом упомянул, даже перечислил имена девушек, которых считал достойными своего друга.
Вчера на собрании Салиха избрали делегатом на волостную конференцию комсомола. Говорили, что он хороший оратор и сумеет рассказать о делах и нуждах комсомольцев. Сидя в президиуме, Салих краешком глаза поглядывал на девушек: вон Маргуба, а вон Зайнаб, дальше сидят Ульмикамал и Фатиха, а совсем позади Бикэ. Чем плохие девушки?
По дороге домой и дома, допоздна сидя над книгой, Салих думал о них, представляя себе ту или иную своей женой. И вдруг вспомнил Корбанбикә. Она, казалось, глядела на него печальными глазами, и губы ее произносили с упреком: «А я?» «Ты далеко-далеко... — думал Салих. — Я ведь любил тебя, сам не зная того. А сейчас хоть и понял, да уж поздно. Все советуют мне жениться поскорее... Зачем? Говорят, чтоб поддерживать хозяйство. Я сам понимаю, что так может рассуждать только лавочник Шангарай, это он ищет только выгоды. Но ведь и почтенные люди приводят те же доводы. Как же быть? Если жениться для хозяйства, а не для сердца, то нельзя ли иначе устроиться? Пожалуй, можно. Например, взять в качестве хозяйки сестру Хакима, которая разошлась с мужем. Вдвоем с Тазкирой разве они не одолеют хозяйства? Вон старик Уметкул, бывший в батраках у помещика Холодовского, остался же холостяком и хозяйствует неплохо».
Чтоб отделаться от этих мыслей, Салих взял с полки папку с рисунками и, разложив их перед собой, стал рассматривать. Вот рисунок на большом листе бумаги, так и оставшийся незаконченным. Начат он был давно, еще в техникуме. Вдалеке ровно расстилаются степи, высится гора Мамбэт — склоны ее синевато-зеленого цвета, вершина обагрена лучами заходящего солнца. Справа, извиваясь, бежит дорога, огибает гору и исчезает за поворотом.
Салих показывал этот этюд учителю рисования, тот похвалил его и на другой день принес большой альбом с цветными репродукциями с картин великих русских мастеров. Салих не мог оторваться от альбома, это было большое событие в его жизни; он продержал альбом целую неделю, поминутно разглядывал его и полюбил, как лучшего друга. Он просиживал над картинами вдвоем с Корбанбикә, а больше всего — когда оставался один. Его восхищало сочетание красок, он старался понять, как они наложены и почему дают такой эффект. Но больше всего он хотел узнать, как художники добивались такого цельного и сильного впечатления от пейзажа или портрета, почему так захватывают зрителя эти картины. Салих понимал, что, прежде всего, в этих картинах заложено глубокое содержание. Не будь этого, сочетание красок в картине могло бы только удивить глаз, но не сердце, сердце осталось бы равнодушным. Да и подумать тут было бы не о чем. Салих часто вспоминал этот альбом здесь, в Аккуяне, когда его внимание привлекала красота незаметного на первый взгляд лица или когда он останавливался, замерев, перед каким-нибудь видом...
Салих выскочил во двор. Мороз приятной свежестью охватил его. Он вошел в маленький сарайчик, где стоял жеребенок. Увидев хозяина, жеребенок тихо заржал. Салих погладил его гриву, накинул на голову поводок и повел на водопой. По дороге он вспомнил статью во вчерашней газете под заголовком: «Комсомолец, твое хозяйство должно быть примером для других!» «Разве мой покосившийся сарайчик может служить примером для других? Конечно, он не может стать образцовым, но починить-то, во всяком случае, не мешает».
Когда он вернулся домой, Тазкира уже встала и возилась с самоваром. Васима, наскоро выпив чаю, схватила под мышку книги и побежала в школу. Прихватив топор и лопату, Салих вышел во двор, чтоб заняться ремонтом сарайчика. К полудню он привел его в относительный порядок и, удовлетворенный, сказал себе: «Ну, теперь, Салих, твое хозяйство может служить примером для других». Почему-то эта мысль показалась ему насмешливой, задела что-то в нем. Сам не зная почему, он рассердился и целый день был не в духе.
Речь, которую Салиху предстояло произнести на волостной конференции, он готовил вместе с Хасаном. Они разработали ее по пунктам: об урожае на ленинской десятине, об участии комсомола в общественной и культурной жизни села, о комсомольских субботниках, о стенной газете, о вовлечении в комсомол девушек.
Со всеми пунктами друзья как будто справились, только один вопрос вызывал их смущение, здесь не было у них твердой уверенности. Какую работу они вели среди девушек, спросят Салиха на конференции. Салих скажет: проводили беседы, устраивали вечера, тайком отправили на учебу Миньямал. О последнем случае знают и в соседних деревнях, и в волости.
— А вдруг меня спросят, — сказал Салих: — «Пусть товарищ ответит: входит ли в задачу комсомола красть дочь у отца?» Что я отвечу?
Хасан почесал небритый подбородок.
— Может, вовсе не говорить о Миньямал?
Салих целый день ломал себе голову над этим вопросом и никак не мог решить его.
— У меня уж голова распухла, — признался Хасан.
— Давай скажем, что мы вообще не вели работы среди девушек. Так, пожалуй, будет лучше, — предложил Салих.
« — Нехорошо получится, обман.
— Тогда давай скажем все как есть. Ошиблись — поправят, и нам и другим наука.
— Видишь ли, — медленно начал Хасан, — если вникнуть, то дело тут сложнее. Вспомни, как мы не приняли в комсомол дочь муллы. И правильно поступили. Когда дочь Шарапа уехала в город учиться и поддерживала связь с отцом, мы написали в газету, что она дочь кулака и что отец ей дороже новой жизни. И тоже правильно поступили. А Миньямал, дочь конокрада, мы сами отправили на учебу. Во, юсь, за это нам спасибо не скажут. Нашли, скажут, кого поддерживать! Я сегодня всю ночь не спал, все об этом думал.
Салих внимательно взглянул на друга — тот был бледен, под глазами синели круги.
Не зная, что ответить, но внутренне не соглашаясь с Хасаном, Салих полушутливо заметил:
— Да ведь он не у бедняков же коней воровал!
— Сказал! Вор — вор и есть. Давай не будем защищать вора.
— Я не защищаю вора, а сказал так потому, что не знаю, как возразить тебе. Но ты все-таки не прав. Ведь, по правде говоря, Миньямал в своем же доме была подневольным лицом. Все знают, сколько горя и обид пришлось на ее долю. А мы, комсомольцы, должны вступаться за обиженных. Не так ли?
Хасан слушал Салиха напряженно. Глаза его просветлели. Ему стало легче. Видя это, Салих прошелся широкими шагами по комнате, затем остановился перед Хасаном с таким видом, словно он уже находится на конференции и произносит речь.
— «Нет, не нападайте на Миньямал, — скажу я. — Ее угнетал родной отец, и она пошла против собственного отца. Значит, она наша девушка, значит, она комсомолка». Вот что я скажу, когда меня спросят про Миньямал. И как только я это скажу, все закричат мне: «Правильно!» — и будут долго аплодировать!
— Не валяй дурака, — сумрачно проговорил Хасан. — Вопрос серьезный, а ты шутишь.
— А что остается делать? У нас в техникуме был один парень. Бывало, если у него не выходило какое-нибудь дело, он говорил, что оно и не может получиться. А сам смеялся при этом. Так он себя успокаивал. Он был поэт.
Хасан сидел, нахмурив брови.
— Меня плохие примеры не увлекают.
— Как хочешь, а придется пойти за советом к Хакиму-агаю или Бикбулату.
Но им не пришлось заходить ни к Хакиму, ни к Бикбулату — Хаким их сам позвал к себе. Встретил очень радушно, был в приподнятом настроении и много шутил. Весь он был в этот вечер какой-то праздничный: из-под изношенного костюма выглядывала новая рубаха в красную полоску, сапоги блестели, смазанные дегтем.
— Как вам кажется, зачем я вас позвал? Небось, думаете, не собирается ли нас угостить Хаким-агай? Я, конечно, не прочь! Но вот ваша тетя Забира другого мнения на этот счет. «У меня, — говорит она, — не постоялый двор, чтобы всех угощать».
■ — И что ты плетешь! — воскликнула, готовая рассердиться, жена Хакима. Она сидела у печки за веретеном. — Не слушайте его, он все шутит!
— Пускай шутит, — ответил Салих. — Хорошо, когда шутит. А то Хаким-агай чаще бывает строг и поругивает нас.
— Если вас еще больше ругать, и то будет только в меру, — рассмеялся Хаким. — Да вы садитесь, а то в самом деле заругаю!
Гости не заставили себя долго просить, им тоже сообщилось настроение Хакима. Салих поймал кошку и посадил ее к себе на колени.
— Ведь вот какое дело, — сказал Хаким, поглядывая то на одного, то на другого гостя. — У меня есть сведения, что вас собираются разлучить.
— Как разлучить? Кто? Кулаки?
— Кулаки? Как же они могут вас разлучить? Захотят — так просто побьют обоих, не разлучая. Говорят, купец Шангарай против вас зуб имеет, против обоих!
— А все-таки кто собирается нас разлучать? — спросил Хасан, все еще встревоженный.
— Ничего худого, — успокоил его Хаким. — Если разлучат, то к добру. Ну да ладно, слушайте. Вчера я был в волкоме, встретил там секретаря канткома комсомола Галляма Агзамского. Я рассказывал ему о вас; оказывается, он уже слышал и о тебе и о Салихе и в курсе всех ваших дел. Хвалил вас за то, что сумели хорошо наладить работу среди молодежи, так что она стала настоящим помощни- ником партии. А ведь есть деревни, где положение совсем плохое. И Агзамскому очень нужен в инструкторы комсомолец, активный, грамотный. Казаков советовал ему поговорить с тобой, Салих. Я согласился с ними. По-моему, ты самый подходящий человек для такого дела. А у нас тут, я думаю, Хасан справится теперь и один. Конечно, мне не хочется расставаться с тобой, но тебе ведь тоже нельзя стоять на месте, надо идти вперед, время такое. Правда, я говорю преждевременно, все решится на волостной конференции. Однако хочу тебе дать время подумать и подготовиться.
Наступила тишина, оба юноши молчали — от неожиданности они оторопели.
Жена Хакима мало интересовалась делами мужа и плохо в них разбиралась. Из слов Хакима она поняла только то, что Салиха забирают из деревни куда-то вроде города, к какому-то Агзамскому, сама фамилия которого не походила на деревенскую. Она первая нарушила молчание:
— Ах, вот как! Значит, ваш Замский хочет увезти Салиха от бедных сироток?
— Не Замский, а Агзамский, жена.
— Какая разница, как его зовут! От этого он не станет лучше. Он, видно, вроде тебя: мир ему дороже собственного дома, наплевать ему на свою семью, лишь бы другим было хорошо. Бегает, как и ты, целыми днями неизвестно где, только и знает, что батрак да мат- рак, кулак да мулак.
— Разошлась ты сегодня, Забира! — попытался остановить жену Хаким.
— Да как тут не разойтись? — все более горячилась Забира. — Как он смеет трогать Салиха, раз он единственный кормилец семьи! Вас, коммунистов, дом не касается, семья не касается... — Неправда! — прервал ее Хаким. — Об этом мы много говорили, потому и решили не брать Хасана: у него дом, земля, мать, сестры...
— А у Салиха нет сестер? Не его ли мать их родила?
— Ты не горячись, сначала выслушай. — И Хаким обратился к гостям. — Всегда она так, вскипит, а толком не знает, в чем дело. — Хаким снова повернулся к жене: — И об этом шла речь. О сестрах Салиха позаботятся, Тазкира будет учиться, а младшую возьмет детдом.
— Кто, кто?
— Детдом.
— Это кто еще такой?
— Это не человек, а место. Дом, где воспитывают сирот.
Но Забира не хотела сдаваться:
— Все равно толку из этого не выйдет.
— Полно, жена, — сказал Хаким, стараясь успокоить расшумевшуюся жену, -тебя, что ли, зовут в кантком?
— Как же! Так я и собралась туда! — И Забира, схватив ведро, в сердцах поставила его вверх дном на печку.
■ — Ну, Салих, твое слово, — обратился к нему Хаким.
— Не знаю, что и сказать, — чистосердечно признался Салих. — Надо с сестрами посоветоваться.
Забира снова вскочила с места.
— А они не согласятся, ни за что не согласятся! Если вы уедете, что станет с вашим хозяйством, с фундаментом? Ведь стоит людям только на месяц покинуть дом — стеклышка 134целого в окне не найдут. А дольше пробудут — и доски с нар разнесут, и котел выдернут, дверные крючки и те унесут. Голое место останется. Нет хозяина — нет и глаза.
— Выходит, по-твоему, что Салиху ничего не остается, как жениться и сесть с руками и ногами на фундамент? — насмешливо спросил Хаким.
— А чем плохо? — живо ответила Заби- ра. — Что Салих хуже других? Самый почтенный хозяин отдаст за него свою дочь! Он не богат, но фундамент у него есть, заложенный еще родителями. На моих глазах Хупьямал- апай своими руками, несчастная, таскала тяжелые камни для дома. Каждый раз, когда вхожу к ним, вспоминаю их мать.
Хаким видел, что слова Забиры угнетающе действуют на молодых людей.
— Хватит, Забира! На сегодня мы закончим. А самовар ты так и не поставила.
Салих взглянул на знакомые стены этого дома, и ему показалось, что он видит их в последний раз. Да, обстановка и убранство этого дома не богаты. Но есть в нем то, чего еще нет во многих других домах деревни, — книги, газеты, — не от этого ли нового придет в деревню богатство и зажиточность, о которой мечтает Забира?
— До свидания, тетя Забира! До свидания, Хаким-агай! — сказал Салих.
Хасан же ушел не прощаясь, как человек, который еще вернется обратно.
14 В низменной части деревни, которую так и называют — «нижняя сторона», стоит глиняная избенка. Стекло уцелело только в одном ее окне, а другие затянуты высушенным бычьим пузырем. Здесь живет Ташбулат со своей семьей. Крыша дома плоская, и на ней растет трава, чахлый подсолнух поднимает на тонких стеблях свои маленькие желтые головки. Конечно, никто не сажал подсолнух на крыше. Просто Ташбулат ходит часто в соседние села на заработки и приносит оттуда картофель, репу, подсолнух. И три его сына — Акбулат, Хакбулат, Хазбулат, как две капли воды похожие на отца, как только потеплеет, забираются на крышу и грызут там семечки. Вот из тех семечек, которые они просыпают, и прорастает потом на крыше подсолнух.
Старая избенка Ташбулата перешла к нему от его отца Тимербулата. Внутренность ее не лучше внешнего вида. Нары, сколоченные из необструганных досок, скрипят и гнутся, как только на них сядешь; покрыты они дырявым тряпичным ковриком, а подушки давно потеряли свой первоначальный цвет и форму. Совсем их доконали ребята за отсутствием игрушек. Летом, понятно, им не сидится дома, целыми днями они пропадают у реки, купаются, ловят рыбу. Если им удается достаточно наловить, чтобы хватило на уху, радости и хвастовству их нет предела. В восторге они бегают по двору и гоняют ногами собственные тюбетейки. Беда с ними! А хуже всего, что не успеешь оглянуться, как они уже износили одежду и обувь. Мать шьет им рубашки из жесткого полотна, а воротники, полы и края рукавов обшивает тремя слоями, чтоб износу не было. Но мало помогают эти предосторожности!
Сабира не здешняя уроженка. Ташбулат привез ее из Бузаулы, расположенной в нижнем течении реки Тук. Она мало походила на здешних женщин, даже речь ее казалась чужой, и вызывала насмешки. Например, слова «химез харык», это значит «жирная овца», она произносила «симез сарык», — ее за это и дразнили «жирной овцой», хотя она была хрупка на вид. Ташбулат в ней души не чаял и за всю свою жизнь с ней не только пальцем ее не тронул, но и грубого слова не сказал. Выходя за Ташбулата, Сабира подарила ему кольцо, сделанное из пятикопеечной медной монеты, и Ташбулат очень дорожил им и берег, как редкую драгоценность. Осыпанное веснушками лицо Сабиры было привлекательно, и вся она была очень мила, тиха, чиста душой, резкого слова от нее никто никогда не слышал. Не оттого ли ребята ее были такими озорниками? Она никогда не поднимала голоса, не ругала, не укоряла их. Глядя, как они прыгают друг через друга, она сама смеялась от души, восклицая:
— Ах вы, баловники!
Ташбулат не раз говорил, что жизнь их когда-нибудь да наладится и нужда уйдет из их дома. Долгие годы он батрачил то на Ша- рапа, то на Шангарая. Обещания они давали щедро, а когда подходило время расчета, разводили руками и тяжело вздыхали: рады бы вознаградить, да дела пошли из рук вон плохо — и урожай не тот, на который рассчитывали, и поголовье скота почему-то снизилось, и торговля не ладится. Так они говорили, и Ташбулат верил им, хотя и странным ему казалось, что при своих плохих делах и дома они себе новые строили, и землю прикупали, и шуб хороших на вешалках прибавлялось.
Как-то осенью ввалился к нему пьяный Айытбай, Удивился тогда Ташбулат, зачем пожаловал к нему такой гость. Айытбай долго стоял, покачиваясь, посредине комнаты. Обретя, наконец, дар речи, он заговорил, запинаясь на каждом слове:
— Хоть и зовут тебя Ташбулат, но совсем ты не Ташбулат *. Ты не Ташбулат, а Мамык- булат. А я Айытбай, а не Айыкбай. Оба мы с тобой бедняки, но ты никогда сыт не бываешь, а я, наоборот, голоден не бываю! Угадайка, что я сегодня ел в обед? От одних моих слов у тебя слюнки потекут! Полбарана бросил в котел, хочешь — верь, хочешь — нет, и сварил, — не я, конечно, варил, а жена, само собой! Навар был толщиной в два пальца. Ей-богу, не вру! Нажрался я до отвала и всего не одолел, бросил собакам. Ты не слушай, что про меня люди говорят, — я добрый. Хочешь, подарю тебе полбарана, хоть сейчас приволоку! Клади в котел, вари и ешь на славу всей семьей. А?
Ташбулат, Сабира и дети стояли, раскрыв рты. Сабира боязливо глядела на этого человека с вытаращенными глазами.
— Ну, что скажешь? — спросил Айытбай. — Согласен? Это только для начала, а там пойдет твоя жизнь всем на зависть.
Ташбулат молчал, ожидая объяснений. Айытбай понял его молчаливый вопрос.
— Дело простое, ■- сказал он. — Составим мы с тобой компанию. Будем ходить вместе на ночные заработки. Сам понимаешь, по-разному может быть. Иной раз и прибьют, и собака в ногу вцепится, а иной раз и разбогатеешь разом.
— Ну? — сказал Ташбулат, его всего лихорадило.
— Раз «ну», значит, «поезжай», — рассмеялся гость.
Ташбулат вплотную подошел к Айытбаю, жилы на его лбу вздулись, и не только лицо, но даже грудь, выглядывавшая из распахнутой рубахи, и та побагровела. Огонь сверкнул в его глазах, как молния в темную ночь. Айытбай начал трезветь. Ташбулат был выше его ростом и сильнее. Он широко распахнул дверь и хриплым голосом, от одного звука которого Айытбая бросило в холод, крикнул:
— Вон!
Без слов Айытбай выскочил за порог.
Когда семья Ташбулата немного пришла в себя, Акбулат воскликнул:
— Да он же дурак! Собаку мясом кормит.
А Хакбулат удивленно спросил:
— Отец! Верно, что он собаке мясо дает?
Ташбулат промолчал: он страдал от мысли, что его дети не видят мяса.
Как бы угадав мысль отца и желая его утешить, Хазбулат заметил:
— И мы едим мясо! Рыбье!
— И очень вкусное, — согласился Акбулат.
Ночью Ташбулату не спалось. Он лежал, глядя во тьму широко открытыми глазами. Сабира осторожно коснулась его плеча.
— Что? — отозвался он.
— Давай уедем отсюда.
— Искать счастья?
— Кто знает, может и найдем его в другом месте?
— Нет, жена, везде мы увидим то же солнце. Надо строить счастье на своем фундаменте. И мы найдем его, если будем жить честно, надеясь только на свои руки...
Сабира вздохнула. Она еще не видела, чтоб люди добивались счастья своими руками, если даже и работали не жалея сил. Что же такое счастье? Она затруднилась бы ответить. Она его не испытывала. В жизни у нее было несколько светлых дней. Когда ее в детстве повезли как-то в санях на свадьбу сестры, она помнит, что была счастлива. В другой раз она была счастлива, когда однажды, с подругами пошла в горы собирать дикий лук. Там, на приволье, она чувствовала себя счастливой. Замуж за Ташбулата она вышла по любви — это, конечно, счастье. Хоть и бедно, но живут они в дружбе. Может, они, сами не зная того, счастливы и только зря считают себя несчастливыми? Разве жену Айытбая можно назвать счастливой? Сегодня они съедят целый котел мяса, а завтра ее муж изобьет до крови. Нет, она не завидует такому счастью.
Однажды она поделилась своими мыслями с мужем, и Ташбулат согласился с ней, ему даже как-то легче стало. Да только ненадолго.
Вскоре произошло еще одно событие, которое совсем выбило Ташбулата из привычной колеи. Как-то к ним в дом зашла цыганка. На ее плечи была накинута большая яркая шаль, а черные, как смола, глаза шныряли по всем углам. Она не поздоровалась ни с кем и сразу стала причитать:
— Ах ты, несчастный! Ах ты, бедняжка! Тебе нет еще сорока лет, а посмотреть на тебя — старик! Ах ты, мученик! Ах, страдалец! Сколько горя в душе ты носишь, сколько мыслей по ночам тебе спать не дают! От людей свое беспокойство скрываешь, и от жены скрываешь, и от детей. А от меня не скроешь! Нет, я знаю все твои мысли, вижу тебя насквозь!
От потока слов цыганки, от ее жалящих глаз Ташбулату стало не по себе. Холодный пот выступил у него на спине. Сабира, не понимая по-русски, но чувствуя что-то неладное, отошла в сторону, чтоб цыганка не навела на нее порчи.
— Разве неправду я говорю? — крикнула цыганка прямо в лицо оторопевшему Ташбулату и, помолчав, вздохнула в знак своего сочувствия.
И Ташбулат невольно ответил:
— Правду.
— А если правда то, что я сказала, — вкрадчиво проговорила цыганка, — то скажу я тебе еще большую правду. Только дай мне рубль.
Ташбулат машинально полез в карман, куда очень редко попадала монета, пошарил в нем и ничего там не обнаружил, кроме куска веревки.
— Нет у меня денег... Я, тетенька, бедный человек, — оправдывался он.
— Знаю, милый, знаю! Знаю, что ты бедный человек. Но душа у тебя хорошая. Я жалею тебя. Помни, что я скажу тебе: бойся черного человека — он твой враг.
Ташбулат побледнел.
— Как его зовут? — быстро спросил он и стал живо припоминать всех черных людей, каких знал, но ни один из них не казался ему врагом. Он обратился к Сабире:
— Какого цвета Айытбай? Он не черный?
— Какой он черный? Рыжий!
— А он не рыжий? — повернулся Ташбулат к цыганке.
— Нет, не рыжий, а черный! Черный-черный!
Цыганка, увидев, что Ташбулат ошарашен, и не желая выпускать добычу из рук, продолжала:
— Нет денег, так дай хлеба. Только цельный каравай, не тронутый ножом. И я скажу, какая беда тебя ждет.
— Сабира! Она просит целый хлеб. Отдай, она скажет нужное слово.
Сабира протянула цыганке хлеб, и та затараторила:
■-1 Ай, агай, ай, агай! Ты получишь деньги из казенного дома. Только не радуйся этим деньгам. Не к добру они. Ох, не к добру! — И добавила таинственно: — Твой дом стоит на плохом фундаменте. Всю твою силу сосут земляные черви, которые живут в фундаменте. — И вновь громко заговорила: — Враги твои радуются твоей беде. В глаза как будто жалеют, а за глаза смеются. Ай, несчастный! Ай, бедняжка!
Ташбулат дрожал всем телом.
Цыганка ушла. Ташбулат опустился на стул и замер, как в обомороке. Обычно в моменты сильных волнений он разглаживал свои густые черные усы, на этот раз он не сделал и этого.
Хазбулат вскарабкался было к нему на колени, чтоб приласкаться, но отец осторожно отстранил его. Мальчики понимали, что на отца свалилось какое-то тяжелое несчастье, и не отрывали от него глаз. Сабира стала шуметь посудой у печки, уронила скалку, чтоб нарушить тишину и привести Ташбулата в чувство.
В окна вливалась серая вечерняя мгла. Где-то в углу принялся стрекотать сверчок. Это была единственная музыка, которую слышали в доме Ташбулата, — она начиналась каждый вечер. Сверчки обычно живут в кирпичных домах, расположенных близ реки, и когда в доме тепло, то они трещат иногда до глубокой зимы. Есть люди, которые боятся сверчков, думая, что они приносят несчастье, ищут их, чтобы выкинуть, но еще не было случая, чтоб кто-нибудь нашел или увидел живого сверчка. Ведь неизвестно, может быть, это вовсе и не сверчок трещит?
Слова цыганки тяжелее камня легли на душу Ташбулата. Долго он никому не рассказывал об этом случае, пока однажды не забрел в кузницу к старому Халькесу. Кузнец, по своему обыкновению, возился с какими-то кусками железа, а старуха Сахип дремала в углу.
— А-а, Ташбулат Тимербулатович! Проходи, гостем будешь!
Ташбулат, увидев колесо со свеженакле- панной шиной, удивленно спросил:
— Кто же это к зиме колесо готовит?
Халькес, засмеявшись, сказал:
— Как-то один старик вроде меня сказал: «Летом бери с собой шубу, а зимой — сам знаешь, что». Летом взял я у Шангарая совок муки, так он этого не забыл — до чего память хороша! Глядя на зиму, колесо принес, чтоб дать мне возможность рассчитаться за муку. Не упустит случая! Цыган, истинный цыган!
Ташбулат обрадовался удобному случаю поговорить о том, что его мучило.
— Ты сказал: цыган! Что ты про них думаешь, Халимулла-бабай? Могут они правду сказать или все обманывают?
— Как сейчас помню, — ответил Халькес, — твоего покойного отца Тимербулата. Он двумя годами раньше меня призывался. Отлично помню. Сам его провожал.
Ташбулат удивился, к чему это старик Халькес заговорил об его отце.
— Я спрашиваю насчет цыган: могут ли они правду знать?
Но Халькес как будто не слышал этого вопроса.
— А, может, я ошибаюсь, ослышался? Старуха, — обратился он к жене, — скажи, как твои уши, хорошо ли слышат?
Старуха, которая была не прочь ответить шуткой на шутку, спросила:
— Разве ты шептал мне на ухо азан 1 и я не пошла на молитву? К чему ты спрашиваешь?
— Мне показалось, будто Ташбулат назвал меня бабаем...
’Азан — призыв на молитву.
— Да, я так сказал, — подтвердил Ташбулат, не понимая, к чему клонит кузнец. — Я сказал «Халимулла-бабай».
— Выходит, я тебе дедушка? Твой отец ушел в солдаты только двумя годами раньше меня. Значит, по-твоему, я был женат на твоей бабушке?
Ташбулат смутился и замолчал. «Видно, — грустно подумал он, — не узнать мне того, за чем пришел». Но Халькес сам пошел ему навстречу.
— Скажи, — поднял он голову после недолгого молчания, — ты завязываешь веревку на своих штанах узелком?
— Да, — с недоумением ответил Ташбулат, не зная, улыбнуться ему или обидеться.
— И стоит тебе потянуть за конец веревки, как узелок распускается. Так?
— Пусть так, но к чему этот разговор о штанах? Я же спрашивал про цыган.
— А к тому, что я не видел, как ты завязываешь свои штаны, а про веревку все правильно рассказал. А почему? Потому, что у всех веревка одинаково завязывается. Так же и цыганка. Приходит в чей-нибудь дом, к бедняку, например, такому, как ты. Заходит она в бедный дом и говорит, что ты беден. Правильно говорит? Правильно. Говорит, что ты несчастен, — тоже верно. Что тебя ждет беда, — а ведь их, бед-то, сколько было в твоей жизни, так почему бы им не быть и впредь? Правильно. Говорит, наконец, что есть у тебя враг, — а у кого его нет? Враг-то у каждого какой-нибудь да есть. Тоже, выходит, правильно. А ты уши и развесил. Да откуда ей знать о твоей жизни, раз она никогда тебя до этогоне видела? Вот так нас, дураков, и обводят вокруг пальца.
Ташбулат слушал внимательно, потом спросил:
— Все, конечно, так, Халимулла-ба... — он чуть не сказал «бабай», но вовремя поправился: — Халимулла-агай| Только откуда же она знает, что мой враг — черный человек?
— Тьфу! — сплюнул в досаде Халькес. — Разинул рот перед старой тряпкой! Знаешь что? Поди-ка ты, дружок, к Хакиму, да и не к Хакиму даже — зачем его беспокоить? — поди-ка ты к молодым ребятам, к Хасану или Салиху, у них спроси. Они про твоего врага лучше всякой цыганки расскажут, все карты раскроют. И про цвет скажут, и про рост, и про возраст, и фамилию назовут, и про весь его род до седьмого колена расскажут. Ведь ты, кажется, не охотник на собрания ходить? Напрасно! Там про врагов хорошо рассказывают, — а про твоего в первую очередь. Правильно я говорю, Сахипьямал?!
— А? — спросонок вздрогнула старуха.
— Эй, старушка, не засыпай! Клюнешь носом прямо в горячий уголь!
Ташбулат, выйдя из кузницы, пошел домой окружным путем. Он хотел привести в порядок свои мысли.
Ветер кружит мелкие снежинки и больно бьет ими в лицо. Соломенные крыши домов дрожат, словно в страхе перед сурово приближающейся зимой. А у Ташбулата на крыше все травы уже высохли, только жесткие стебли полыни да крапива жалко стелются под порывами ветра.
Ташбулат подошел к дому. Видно, Сабира 14бразожгла очаг — пламя играет, отражаясь на стекле, Акбулат, Хакбулат и Хазбулат сидят у окна, высматривая отца. Кто-то из них выводит пальчиком на тонком слое льда, успевшего уже затянуть стекло, какой-то рисунок — не то лошади, не то собаки. Взгляд Ташбулата упал на низкий фундамент, составленный из двух рядов белых камней, — он отвернулся, вспомнив слова цыганки о червях, подтачивающих его фундамент. Правда, старик Халькес немного успокоил Ташбулата, но не так-то легко вытащить когтистую руку, залезшую в душу.
15 Сегодня только и говорят о приезде театра. Никто в деревне никогда не видел театра, а многие, если правду сказать, хорошенько и не понимают, что это такое. Правда, летом комсомольцы ставили пьесу. Но смотреть ее пришла только молодежь, а те, кто постарше, и не заглянули. А сейчас, говорят, настоящий театр едет, и не откуда-нибудь, а из волости, и выступают в нем солидные люди — учителя. Пожилые люди собрались перед кооперативом, и приказчик, который всякий раз привозил уйму новостей, рассказал, что третьего дня театр был в деревне Мавлетбай и многие там думали, что все происходит по-настоящему, очень переживали за героев, а женщины даже плакали.
Слушателям, однако, не ясно было, что же такое, в конце концов, театр. Объяснять взялся Файзулла — он служил до революции в солдатах, был на войне и считал, что нет ничего такого на свете, чего бы он не знал.
— Что такое театр? Это только называется театр, а на самом деле туман; не обыкновенный туман, а туман особенный. К стене, значит, прибивают белый холст, в доме тушат огни и сейчас же с противоположной стены начинают выпускать тени. Тут только держись: вылезают звери, вылезают люди. Люди сначала шевелят губами, будто говорят, а потом начинают драться. Вдруг смотришь — лес, вдруг смотришь — море. Лодки плавают, девушки в воду кидаются. Сами не говорят, только все трещит, как крышка на кипящем чайнике. Да еще глаза режет, долго после этого голова болит.
Многим от объяснений солдата стало не по себе. Хорошо еще, Насып возразил ему:
— Не знаю, о чем тут рассказывает Фай- зулла, но только это не театр. Там таких ужасов не бывает.
— Тогда объясни сам.
— Могу рассказать, — скромно ответил Насып.
Тут все сгрудились вокруг него, махнув рукой на солдата.
— Никакой стены нет, — начал Насып, — а есть круг, по кругу садятся люди, как у нас на сабантуе *, а в середке все и происходит. У нас подходящего дома нет. Вот на хуторе Шаг- бала манеж есть, лошадей в нем прогуливают- лучше этого помещения для театра не найти.
— А что же в середке-то происходит? — нетерпеливо спросил кто-то.
— Ав середке вот что происходит. Там Сабантуй — праздник весны.
над головой в воздухе протянут аркан, а по аркану ходят люди в коротких штанах. Ходят они по этому канату и размахивают зонтиками. Душа твоя еле жива от страха — вот свалятся! Потом они уходят, и вместо них приходят два дурака, с рыжими волосами, в таких широких шароварах, что не меньше пятидесяти огурцов в них вместится. Выходят дураки — и давай друг дружку задирать. «Я> — говорит один, — купец». — «Какой ты там купец?» — хохочет другой. И начинают они друг друга дубасить по чему попало.
После рассказа Насыпа наступило молчание.
Некрасивый лохматый юноша, сидя на корточках у крыльца, беспрерывно плевал сквозь зубы, издавая нечленораздельные звуки, и вдруг объявил:
— Врет он. Это не театр.
— А что же? — удивились люди.
— Это не театр, а бим-бом.
— Какой бим-бом?
— Так называется, я видел. А рыжие дураки, про которых он рассказывал, они нарочно приходят, чтоб другим мешать. И за это деньги получают.
И он снова сплюнул.
Люди расходились, так и не узнав, что же такое театр. Кто-то сказал:
— Театр это или не театр, а желудка этой пищей не накормишь.
Но, так или иначе, все с нетерпением ожидали приезда театра.
Старик Халькес и столяр Сулейман пришли по просьбе Хакима в школу сколачивать подмостки.
— Места мало, — озабоченно заметил учитель Гильман, оглядывая небольшую классную комнату. — Всех желающих не вместить.
— Придет время, — ответил Хаким, — построим большую школу, клуб, а пока, как говорят старики, будем довольствоваться тем, что бог послал.
Из волости, извещая о приезде театра, предупреждали, чтоб заблаговременно приготовили занавес, что-нибудь из женского платья и, желательно, какую-нибудь декорацию. Салих стал рисовать на газетных листах окно и двери, а двое комсомольцев запрягли лошадь и поехали по деревне собирать нужные вещи.
Одни живо откликались на их просьбу, но некоторые и отказывали.
— Уходите, ребята, уходите! Ничего я вам не дам! — такими словами встретила комсомольцев одна древняя старуха.
Ей объяснили, что все возвратят в полной сохранности, но она только руками замахала.
— Слыхали, что такое театр! Спасибо! Выйдут два рыжих драчуна и кинутся друг на друга! Одни клочья от моей занавести останутся.
А другая старуха заперлась на крючок и разговаривала из-за двери.
— Проходите, проходите! Не дам я вам ничего. Старик мой, если узнает, житья мне не даст. Жена муллы все объяснила: «Если вам отдать халат, его придется семь раз подряд полоскать в горячей воде, чтоб грех смыть».
Учитель Гильман показывал Халькесу и Сулейману, как делать подмостки, помогал им и был сверх обычного оживлен и весел.
. — Это навсегда здесь останется? — спросил Халькес, любуясь уже готовой сценой.
— Только на сегодняшний вечер, — пояснил Гильман, — завтра придется разобрать.
Халькес удивился:
— Столько работы — и на один вечер? Сосед, — обратился он к Сулейману, — помнишь, как мы мечеть строили? Когда это было? Э-э, вон когда! Когда мы из солдат вернулись. А мечеть до сих пор стоит, и книга, в которой мы записаны, вероятно, сохранилась? А, сосед?
Хотелось учителю возразить им, но он не нашел сразу нужных слов. Сулейман стал подбирать щепки, чтобы отнести их своей старухе для очага. Когда старики собрали инструменты и направились к выходу, Гильман остановил их.
— Возможно, — сказал он, — что у муллы есть такая книга, в которой вы записаны, но книга эта давно уже покрылась пылью и никто в нее на заглядывает. А народ — он живой, он ничего не забывает. Не все еще люди понимают, зачем театр, смотрят на него как на пустую затею. Придет время — поймут. Кто знает, может быть, среди нашей молодежи растет такой, кто напишет историю нашей деревни, и его книгу прочтут в других деревнях и даҗе в городах. И расскажет он в этой книге, что многое изменилось с тех пор, как приехал театр, и помянут добрым словом стариков Хали- муллу и Сулеймана.
— Ну да! Напишут, что у Халимуллы была старуха величиной с кулак! — засмеялся Халькес. — Уж не знаю, что скажут о нас на этом свете, а на том, боюсь, прожарят хорошенько. Спросят нас там: «Седина на вас, старики. А чем занимались? Театром?» Что мы тогда ответим, сосед? — снова засмеялся Халькес.
Но Сулейману было не до смеха. Он серьезно отнесся к словам Халькеса и в душе даже немного струсил.
— Уж не знаю, что и ответим, — сказал он, тяжело вздыхая.
Вскоре вернулись комсомольцы с ворохом халатов и занавесок. Шапки их были запорошены снегом, щеки рдели от мороза; вид у них был такой довольный, словно они горы своротили.
Перебивая друг друга, они начали рассказывать про свои успехи.
— Натерпелись же мы от тетки Шакиры, и смех и грех, — начал Фазулла. — То отдаст нам свою занавеску, то отберет обратно. «Боюсь, говорит, как бы беды не случилось. Я ведь этот занавес привезла, когда замуж выходила. Не будет ли порчи нашему супружеству?» — «Ну, отвечаем, от порчи есть средство: устроим вам красную свадьбу — крепче вашего брака ни у кого не будет». Она, как услыхала наши слова, сунула занавес в сундук и замок повесила. «Ни за что, говорит, не отдам!» Заупрямилась да и только. Уж как мы ее упрашивали, еле вымолили! А зато, смотрите, какой материал, краски-то какие! Глаза разбегаются!
С шутками и смехом принялись ребята украшать стены коврами. Для занавеса подошел полог тети Шакиры. Над сценой Салих прибил свой рисунок, изображающий серп и молот. Школа, обычно суровая и неприветливая, неузнаваемо преобразилась.
Когда комната была уже украшена, открылась дверь и явился гость, при виде которого присутствующие онемели. Это был Тухфат- мулла. Он перешагнул через порог, держа под мышкой граммофон, а в руке — большой медный колокольчик.
Вид у муллы был праздничный: свежевыбритые щеки, шуба из выдры. Он вошел, широко улыбаясь, словно здесь его только и ждали. Ребята продолжали молчать и только переглянулись. Мулла как ни в чем не бывало поставил граммофон и колокольчик на подмостки.
— Что это вы все оторопели? — спросил он дружелюбно. — Вам кажется странным, что мулла пришел в театр? Напрасно удивляетесь. Я ведь большой любитель искусств, если хотите знать, и не такой уж невежда в театре и музыке. О, я очень уважаю и глубоко чту искусство! Если хотите знать, когда я учился в медресе, я не чуждался людей искусства, как многие духовные лица. Я дружил с артистами национального городского театра. Я ведь, если хотите знать, примыкал к реформистам, а не к фанатикам в религиозном вопросе. Собирался даже как-то написать для газеты «Вакыт» статью «Взгляд на нашу национальную музыку», но так и не выбрал времени. Я мулла, да, но мулла передовой и хочу шагать вместе с жизьню, с временем, с эпохой, если хотите знать.
Мулла говорил о высоких материях, но походил на юркого купца, который пытается сбыть свой товар и набить ему цену. Комсомольцы чувствовали, что он готовит какую-то ловушку, и настороженно молчали. Нарушил молчание учитель Гильман. Он решил выпроводить непрошенного гостя.
— Большое спасибо вам, хазрет!
Обращение «хазрет» — что значит «просвященство» — звучало насмешкой над гостем, которого даже самые богобоязненные люди в селе называли просто «муллой». Это было большой смелостью, даже дерзостью со стороны Гильмана, но и тут, сделав шаг вперед, он отступил назад, сказав слово «хазрет» как можно мягче.
— Большое спасибо, хазрет, но мы не нуждаемся в граммофоне, и колокольчик у нас есть свой, школьный.
Тухфат, видя, что его заранее приготовленная речь не имела ожидаемого успеха, повернул к выходу, однако граммофон и колокольчик оставил.
Хасан, не говоря ни слова, схватил то и другое и протянул их мулле, но тот спрятал руки за спиной, говоря:
— Нет, нет, пожалуйста! Пусть остаются.
— Нет уж, пусть их здесь не будет, — пренебрежительно ответил Хасан и добавил, повысив голос: — Уносите с собой вашу музыку.
Мулла принял граммофон с колокольчиком из рук Хасана и, криво усмехнувшись, обратился к Салиху:
— Хочу с тобой, сват, парой слов обменяться наедине, — и он кивнул головой в сторону чулана.
«Сват» звучало в устах муллы и почтительно и одновременно насмешливо.
Салих вопросительно взглянул на товарищей — ему не хотелось идти.
— Пойди, Салих, — сказал Хасан.
Салих нехотя пошел за муллой. Войдя в чулан, Тухфат поставил свой граммофон и колокольчик на кучу кизяка. Колокольчик несколько раз со звоном падал на пол, мулла ставил его на место, колокольчик снова падал. Салих внутренне помирал со смеху, но внешне сохранял холодное равнодушие. Наконец, мулла махнул рукой на валявшийся колокольчик и повернулся к Салиху.
— Слышал я, сват, вы собираетесь покинуть нашу деревню и уезжаете в кантон. Счастливого пути хочу вам пожелать. Приятно думать, что молодежь из нашей деревни в люди выходит...
Мулла умолк, ожидая, что скажет Салих, но Салих молчал.
— Обижаете вы меня, сват, — продолжал мулла с укором. — Як вам с открытой душой обращаюсь, а вы от меня нос воротите. Звал я вас, если помните, сват, к себе в гости. Хаер- нису посылал за вами, а вы отказались прийти. Напрасно, сват! Уйти всегда успели бы, раньше послушали бы, — может, не одни глупости мулла говорит. Ведь я же не фанатик и не изувер какой-нибудь; я, может, потому и муллой стал, что в прежних условиях это был самый удобный путь сеять зерно просвещения в души простых людей.
Салих начал терять терпение.
— Напрасно тратите свое красноречие, мулла-абзый, ■- сказал он. — Кто другой, может, и поверит вам, а мы ведь хорошо знаем ваши дела. Мы еще помним, как вы зазвали к себе мать Хасана и с купцом Шангараем запугивали ее, грозились, что расправитесь с молодежью, — и это вы, как вы себя называете, передовой мулла! Много есть и других грешков за вами, не стану перечислять — товарищи ждут.
— Ого, сват! Какой вы не по возрасту речистый! Брат ваш Фарук тоже оратор, сразу видно — родная кровь. Да только вы, сват, позвольте вам сказать, по сравнению с ним смотрите на вещи слишком просто. Конечно, по молодости лет, все по неопытности!
Поучения муллы были прерваны громкими голосами за окном:
— Театр едет!
Детвора, которая с утра во все глаза высматривала подводы на дороге, подняла крик, как на пожаре:
— Хай, хай, хай!
— Едет, едет, едет!
— Хай, хай, хай!
Все, кто был, бросились на улицу. Многие выскочили, надевая шубы на ходу. Зрелище приезда театра, действительно, жалко было пропустить. Три пары саней, по две лошади в каждой, с колокольчиками, с красными полотнищами на дугах, мчались во весь дух. На передних санях гремела гармонь, на задних — скрипка. Когда разгоряченные кони в белой пене, громко фыркая, стали как вкопанные перед зданием школы, раздался общий крик восторга.
— Как на свадьбе!
— Ай-яй, кони! Какие кони!
Среди приезжих увидали старого человека.
— Смотрите, и старик приехал!
— Какой там еще старик? Разве старик будет срамиться?
— Какой-нибудь мальчишка приклеил себе бороду.
Однако борода была настоящая, и принадлежала она учителю Давлеткирею. Веселый и подвижный, несмотря на свой преклонный возраст, он был душой театра. Соскочив с саней, Давлеткирей приветствовал громким голосом встречавших. Увидев какого-то мальчугана, который стоял, разинув рот, он ткнул его пальцем в живот, другому надвинул шапку на глаза, и его сразу окружила шумная детвора.
Артисты стали расходиться по приготовленным заранее квартирам. Давлеткирей, взяв под руку учителя Гильмана, сказал ему:
— Веди меня к себе. Найдется у тебя угощение, нет ли, все равно остановлюсь у тебя. Поговорим, выложим все, что накопилось в душе!
Спектакль закончился только в полночь. Больше всего пришлось по душе зрителям игра Давлеткирея. Все покатывались со смеху от его реплик.
Пожилые люди говорили:
— Этот хальфа, видно, дожидался времени, когда можно будет весело жить.
После спектакля, несмотря на поздний час, начались народные игры.
Салих увел Хасана на улицу. Стояла ясная, тихая ночь. Среди бесчисленных звезд плыла полная луна, настолько прозрачная, что на ней можно было различить девушку с коромыслом и ведрами — так старые люди объясняли лунные пятна.
Обычно в ясные зимние ночи мороз дает себя знать, но этой ночью было теплее, чем даже днем. Друзья шли молча, погруженные в свои думы, и даже не заметили, как дошли до окраины села. Безграничное снежное море раскинулось перед ними, оно дышало глубоким безмолвием.
— Привольные наши места, — с глубокой грустью сказал Салих.
Хасан взглянул на Салиха, удивленный не столько его словами, сколько тем, как они были произнесены.
Салих продолжал:
— Куда ни взглянешь — ни гор, ни леса. Дуй ветер в любую сторону — ничто его не остановит.
— Не понимаю я: к чему ты это говоришь? — пожал плечами Хасан.
— А мне понятно.
— Тебе, конечно, понятно, раз ты сам это говоришь.
— Я родился здесь. Детство провел на этих лугах. Отец и мать мои похоронены в этой земле... И скоро я уеду отсюда. Сам хочу этого, а все же грустно. Окна родного дома забьют досками, двор зарастет лебедой, репейником. Исчезнут следы наших ног. Сестры мои упорствуют, не хотят уезжать. Привычка, конечно, немало значит, да еще и напугали их разные кумушки своей болтовней.
Хасан остановил Салиха:
■ — Знаешь, что я тебе скажу? Оставь здесь своих сестер, обеих. Одну я возьму, другую — Хаким или Бикбулат-агай.
Салих отрицательно покачал головой.
« — Нет, Хасан, спасибо. Им неплохо будет со мной. Расставаться еще хуже. Вот сегодня, перед тем как пойти с Тазкирой в театр, я отвел Васиму к вам — не оставлять же ее одну дома. Она ничего мне не сказала, только глаза ее наполнились слезами, и так на меня взглянула, будто говорила: «Бросаешь меня, не берешь с собой?» Мне было тяжело оставить ее даже на одну ночь и с такой хорошей женщиной, как твоя мать.
— Что-то расчувствовался ты сегодня, — заметил Хасан.
— Прощаюсь с родными местами.
— Ладно, давай вернемся в школу. Неловко — мы вожаки молодежи, а сами ушли.
Они повернули обратно.
По дороге Хасан, как бы невзначай, заметил:
— Будешь в кантоне, передай привет Миньямал.
— Только привет? — лукаво взглянул Салих на Хасана. — Маловато что-то! Я за тебя ее обниму и поцелую.
— Не будет ли это слишком, товарищ Салих? — засмеялся Хасан.
Когда друзья вошли в школу, веселье было в самом разгаре. Заводилой был тот же неутомимый хальфа Давлеткирей. За один вечер все его так полюбили и так к нему привыкли, что казалось — век с ним жили. Достаточно было одного его слова, чтоб молодые женщины, которых обычно долго приходилось упрашивать поплясать, смело выходили в круг.
Было жарко и душно, но никто не собирался уходить — стоя в тесноте, прижавшись друг к другу, люди жадно следили за выступлениями певцов и танцоров.
Хасан и Салих с трудом протиснулись в двери и стали у стены.
Они слышали, как Давлеткирей сказал Гильману:
— Уж если и ты, сверстник, протанцевал, то, наверное, больше и некому — все жители вашего Аккуяна сегодня отплясали.
— Нет, сверстник, — ответил Гильман, — самые боевые еще не показали себя. Если они не выйдут в круг, то главного ты так и не увидишь.
— Где же они, — вскричал Давлеткирей, — эти самые молодые и самые боевые ребята? Я их сейчас же конфискую, мобилизую, реквизирую и увезу с собой, ибо имею право хватать с поличным всякий талант и не допускать, чтоб его зарывали. Кто же они, дорогой сверстник? Скорей покажи мне их благословенные лица| Гильман повернулся к толпе.
— Где Хасан и Салих? — спросил он.
— Здесь, — ответил кто-то у входа.
Хасан, не дожидаясь, когда его вызовут, ловко пробрался через толпу в круг и сразу же стал отплясывать лихой танец. За Хасаном вышел и Салих. У него не было сноровки заправского танцора, как у Хасана, но в каждом его движении чувствовались свобода и легкость.
— О-о! — протянул Давлеткирей с удивлением, и лицо его стало серьезным. — Не замечаешь ли ты, дорогой ровесник, — сказал он Гильману, — у этого юноши особую стать, необычную красоту?
В танце Салиха были фигуры узбекских, цыганских и даже матросских танцев, которые ему приходилось видеть в городе. Время от времени, разгорячась, он выкидывал какую- нибудь шутку-прибаутку, со смехом встречаемую окружающими.
Вращаясь, как волчок, все медленнее и медленнее, словно умирая, он приговаривал на ходу: «Убили, убили! Погиб я, погиб!» Затем движения его становились быстрее и быстрее, и вот уже танцор бешено вертелся на месте со словами: «Ожили! Поехали!» Глядя на пляшущего Салиха, Фазулла не выдержал. Он выскочил в круг и пустился вприсядку.
— Здорово! — в восторге крикнул хальфа Давлеткирей.
Наблюдательная Зульхиза, жена Бикбулата, глядя на пляшущего Салиха, заметила с грустью в голосе:
— Он прощается с родными местами.
Удивительно, что такие чувства, как бы глубоко их ни прятал в душе человек, заметят и мать, и отец, и любимая девушка, и друзья, и даже посторонние люди.
16 Буран, бушевавший всю ночь, к утру стих. Выйдя с лопатой во двор, Салих залюбовался снегом.
Снег лежал красивый, свежий, пушистый. Даже жалко было касаться его лопатой.
Забора совсем не было видно под снегом, ворота завалило; виднелись только чернеющие верхушки столбов, выпуклые, как шапки; казалось, они упали с неба вместе со снегом. Салих поднял голову — небо выглядывало из- за облаков, ясное, перламутровое, освещенное солнцем.
На сегодня был назначен отъезд. Салих начал расчищать от снега дорогу к воротам, чтоб сани могли проехать. Тазкира тоже вышла во двор и принялась вытаскивать из-под сугроба кизяки.
— Не жалей, бери побольше, — заметил ей Салих. — Натопи сегодня жарко.
Тазкира унесла домой груду кизяков и даже не подобрала тех, которые рассыпались, — ведь сегодня топили дом в последний раз.
После чая Васима побежала в школу — прощаться с подругами и учителями. На обратном пути она заходила и в знакомые дома. Подружки надарили ей ворох лоскутов и дешевых бус для куклы, монеты, коробки из- под пудры. Васима принесла их в подоле и стала раскладывать на нарах, с которых уже убрали самотканный ковер. Отродясь у нее не было столько игрушек, даже Тазкиру взяла зависть.
— Для этого добра, — пошутил Салих, — надо отдельные сани запрягать.
Пришли Хасан и Хаким. У Хакима в руках были топор и гвозди.
— Как с жеребенком поступим? — спросил Хаким. — Может, в кооперацию отдашь? Он уже стал добрым конем. — И, не ожидая ответа Салиха, продолжал: — Каждый месяц будем высылать тебе деньги за пользование им.
— За амортизацию, что ли? — спросил Хасан, щеголяя вновь вычитанным словом.
— Не знаю, можно ли к животному применить это слово. Но вроде этого.
Вскоре дом Салиха заполнился провожающими. Пришли и дети по дороге из школы, с тряпочными сумками в руках. В доме для них не было места, и они толкались во дворе. Васиму окружили ее подруги. Тазкиру — ее сверстницы.
— Ой, Тазкира! Ты в кантон поедешь, кофты-юбки наденешь, полусапожки натянешь, как учительница!
— Не загордись, пиши!
— Если твой брат женится, напиши, какая она из себя. И карточку ее пришли.
Тазкире тоже принесли подарки — вышитые платки, нагрудники из лент. Ей было приятно это внимание и грустно уезжать.
Приехал Ташбулат на санях. Вынесли сундук, подушки, ковер. Хаким и Хасан, успевшие распилить нары, стали заколачивать досками окна. Деловитый стук молотка печально отозвался в сердцах уезжающих и провожающих. Пожилые люди вспоминали, как строился дом и каких трудов это стоило.
— Такова жизнь, — сказал один. — Гонишься, гонишься за нею, а потом умираешь — и все остается.
— Еще неизвестно, как дело обернется, — возразил другой.
— И то верно, — согласился первый.
Васиму и Тазкиру усадили в сани, завернули в ковер. Ташбулат взялся за вожжи. Салих пошел пешком, рядом с санями. Он с грустью смотрел на остающиеся позади дома. С каждым домом что-нибудь да было связано. В этот дом он забегал одолжить сито и дожидался, когда его достанут с печки. В этом он просиживал не одну длинную ночь, слушая сказки старого деда. Конечно, он не раз еще побывает в Аккуяне, но все-таки грустно уезжать.
А вот и школа. Она ничем не отличается от других деревенских домов, такая же маленькая и неказистая, только над дверью прибита вывеска: «Школа первой ступени». Надо забежать попрощаться с Гильманом-агаем. Салих быстро направился к школе. В это время зазвенел звонок на перемену, дети выбежали из класса, учитель же остался за столом. Увидев Салиха, он снял свои перевязанные ниточками очки и, щурясь, посмотрел на него:
— Я уезжаю, Гильман-агай! — сказал Салих вместо приветствия.
— Да-да, — торопливо ответил учитель. — Я собирался пойти попрощаться. Как? Уже уезжаешь?
Он машинально переложил книгу и тетради, передвинул стул и прошелся из угла в угол. Старик был взволнован.
— Да вы сидите! Я забежал на минутку.
— Ну, что ж, счастливого тебе пути, мой дорогой друг, — взволнованно сказал учитель.
Они обнялись.
Глаза Гильмана увлажнились, по морщинистому лицу покатилась слеза. И Салих почувствовал, что в носу у него защекотало; он потянул вверх носом, чтобы удержать слезы.
На стене висел рисунок серпа и молота, сделанный Салихом для театра. Гильман перевесил его на самое видное место, на середину стены, против окна.
— Я оставил его здесь, как твой подарок школе, — сказал Гильман, проследив за взглядом Салиха.
— Если бы я знал, я сделал бы новый, получше. Обязательно сделаю и пришлю вам. Ну, прощайте, Гильман-агай... Салих выскочил на улицу, сани были уже далеко. Он ускорил шаг; люди провожали его взглядами из окон и выйдя за ворота. На окраине деревни сани догнала Зульхиза. Она щелкнула Васиму по носу, торчавшему из-под ковра, и сунула ей совсем еще теплый пирог.
— Пиши, слышишь? — сказала она Салиху. — Сам знаешь, как Бикбулат тебя любит. Не простит тебе, что ты уехал, не дождавшись его.
Кругом широкая снежная степь. Как длинное серое полотенце, вьется по ней дорога. Вон знакомая мельница, укутанная в снег, как в шубу; какие-то люди копошатся около нее.
— Тебе не холодно, Васима? — спросил Салих.
— Что я, дура, чтоб мерзнуть! — храбро отрезала Васима.
— А ты не замерзла, Тазкира?
— Я-то?! — с возмущением взглянула она на Салиха.
Салих шагал рядом с санями. Ташбулат не гнал лошадей, будто даже забыл о них, погруженный в свои думы.
— Дай-ка, Ташбулат-агай, я поправлю лошадьми, — предложил Салих.
— Нет, — буркнул Ташбулат, досадуя, что ему мешают думать.
Однако ему хотелось с кем-нибудь поделиться своими мыслями. Он чувствовал, что ему одному не распутать этот бесконечный узел.
— Вот видишь, Салих, как оно получается. — начал он после продолжительного молчания. — Весной я вез тебя в деревню с того конца, а сейчас увожу с этого. Кого я только не возил! Брата твоего Фарука с Нафисэ тоже возил. Ох, и хороши кони у муллы! Выехали после чая, а к ужину были в кантоне.
— А мы когда будем? — спросила Тазки- ра.
— Придется переночевать в дороге, в русской деревне. Можно, конечно, ехать и быстрее, груз-то небольшой. Как бы только дети не замерзли.
— Поедем! — воскликнула Тазкира. — Дорога ровная.
Но самому Ташбулату не хотелось гнать лошадей, он словно боялся, что от быстрой езды растеряет свои думы.
Салих чувствовал, что у Ташбулата что-то есть на душе, что мешает ему. Не раз приводил его Хаким на собрания батраков, не раз допытывался, какие у него расчеты с Шанга- раем и с Шарапом, не обижают ли они его. Но Ташбулат отмалчивался, все что-то скрывал. Салих знал, что Ташбулат натерпелся от Шарапа и Шангарая, но не понимал его робкого поведения. Рассказывали, будто Ташбулат видел дурной сон и пошел к муэдзину с просьбой истолковать этот сон и будто бы муэдзин предупредил его: «Если хочешь избежать черной судьбы, не жалуйся ни на кого, знай молчи». Все это было очень туманно.
В дороге естественно было заговорить с Ташбулатом, но Салих не знал, с чего ему начать. Ташбулат заговорил первый.
— Эх, Салих, браток, — вздохнул он с таким чувством, словно хотел разгрузить себя от непосильной тяжести, — человек ты молодой, но хочу рассказать тебе одну свою тайну. Можешь послушать?
— Конечно, конечно, Ташбулат-агай, рассказывай, я слушаю тебя.
— Буду я с тобой как родной с родным говорить. Вот сколько я уже живу и все думаю: какая причина моей бедности? Должна же ей быть причина. Был бы я лентяй, тогда, понятно, и говорить не о чем. А ведь я тружусь, и я, и жена моя Сабира до черного пота работаем, как лошади. Твоя тетя Сабира хоть в небогатой семье родилась, но ее баловали. А я вот не сумел. Хоть не обижал, но что за радость, если и ничего хорошего в жизни ей не дал! Эх, бедность, бедность! И у отца моего такая же была судьба. Бился он, бился, как рыба об лед. Сколько он за жизнь свою наработал, сколько сил ухлопал — подумать страшно. А все впустую. Не только ничего не прибавлялось, а, наоборот, все убавлялось. Даже единственную лошадь — и ту он потерял, и пришлось пойти в батраки к старосте. Сколько обид вынес, сколько унижений, про то знает только он с матерью да мы, их дети. Отчего же такая напасть на нас с отцом? Думал я, думал и дошел до причины... — И, нагнувшись к самому уху Салиха, он сказал, понизив голос, словно сообщал великую тайну: — Все дело в фундаменте. Да, в фундаменте, на котором наш дом стоит. Фундамент этот и мою и отцовскую силу высосал. От него все наши беды. И решил я, брат, уйти с этого фундамента, бросить его, проклятый... Есть у меня годовалый жеребенок, подарок от советской власти. Продам я его, добуду еще немного денег и переселюсь, перенесу дом на другой фундамент.
Голос у Ташбулата дрожал — никому еще не высказывал он эти свои затаенные мысли.
Салих задумался; он не знал, какие найти слова, чтоб разубедить Ташбулата.
Все же он сказал как можно мягче:
— Вряд ли причина твоих бед в фундаменте. Не в другом ли дело? Вспомни, не один ты бедняк — и Хушкай бедняк, и Ибрай-агай, а их дома не на твоем же фундаменте стоят.
Ташбулат даже рассердился, что так недоверчиво обошлись с его сокровенной, выношенной в душе надеждой.
— Много ты понимаешь! Ты и жизни-то не знаешь! Все по книгам, да и те только два последних года читаешь! Я знаю, что делаю, вот увидишь! Перетащу свой дом в переулок муэдзина Кермена. Подам бумагу в совет — мне разрешат. Я ничего там не нарушу. Скажут, что загорожу немного переулок? Так ведь по нему лишь воду возят, когда кизяк заготовляют. А за водой можно проехать и по переулку старика Батрши.
Салих понимал, что словами тут не поможешь. Ташбулат и слушать не станет, больше рассердится. Придет время — сам убедится, чего стоят его надежды. И Салих промолчал.
— Агай! Не видно еще кантона? — послышался голос Васимы. Она не понимала разговора взрослых, и ей стало скучно.
— Вот он, кантон, перед тобой, — пошутила Тазкира. — Раскрой глаза пошире.
Ташбулат взглянул на небо, покачал головой: «К вечеру будет буран», — и хлестнул лошадей.
ЧАСТЬ
ЭТОМ 1 Кантонный центр был расположен в деревне Ахмер. Эта довольно большая деревня раскинулась на склоне горы, редкой в этих краях, и спускается до самой реки Саран, описывающей в этом месте полукруг.
Летом, когда смотришь вниз с вершины горы, река напоминает подкову, лежащую на зеленом платке, и даже отсвечивает на солнце железом. По ту сторону реки разрослась роща, между деревьями бежит ручей и вливается в большую реку. А если подняться еще выше, смотреть, скажем, с самолета, то красноватая гора с редкими деревьями и живописно сбегающими вниз домами, окруженная с трех сторон светлой полосой воды, напоминает узорчатую деревянную миску, перевернутую вверх дном.
На главной улице обращают на себя внимание три больших дома, амбары с железной крышей и лавка. Когда-то они принадлежали богачам Токаевым — вся земля вокруг деревни верст на десять и даже на пятнадцать была их собственностью. Приехали они сюда с нижнего течения реки Тук во время голода 1901 года, привезли с собой несколько возов муки и за бесценок скупили крестьянские земли. Сделку помогли им провести помещик Субботин, живший в своем хуторе по соседству с Ахмером, и ишан Хафиз, им обоим Токаевы подарили за содействие по солидному куску земли. Старики часто вспоминают, как наживались на их несчастье помещики. «Если бы не Советы, мы до сих пор сидели бы без земли», — говорят они. Сейчас из семьи Токаевых осталась в селе только помешанная старуха, жена одного из Токаевых. Ее он привез из Бухары, когда возвращался из Мекки, и вскоре бросил. После революции одни из Токаевых ушли с белыми, и больше их никто не видел, другие по временам показывались в деревне и снова куда-то исчезали. Токаевские дома были конфискованы, и большинство кантон- пых учреждений обосновалось в них.
Теперь Ахмер стал шумным и оживленным кантонным центром. Не проходит недели, чтоб в Ахмере не созывались совещания или конференции, время от времени показывают спектакли. Вечерами на улицах бывает много народу- служащие учреждений, учащаяся молодежь, приезжие из района.
Вот уже три месяца, как Салих живет в кантоне. Тазкира недолго была с ним, вскоре она уехала в город, на курсы пионервожатых. С Салихом осталась одна Васима. Спозаранку, взяв под мышку учебники, она мчалась в школу вместе с Ямалы — сыном квартирохозяина. Она вполне освоилась на новом месте, приобрела новых подруг, а соседки опекали ее. Жена военкома Горячева подарила ей настоящие стальные коньки. Сколько из-за этих коньков было ссор между ней и Ямалы — тот почему-то предъявлял на них свои права! Но, конечно, ей больше доставалось на них кататься. Она даже вечером, ложась спать, клала их себе под подушку.
Незаметно подошла весна. Снег быстро таял. С крыш целый день звонко капало. Воды в канавах набралось достаточно, чтоб гусаки могли прополоскать в них свои шеи. Что еще делать гусакам? Скучно им, издают они недовольные крики — жалуются, что гусыни бросили их и занялись высиживанием яиц.
Старики говорят, что в этом году река Саран тронется сразу: очень горячо взялась за дело весна, и люди, собравшиеся в Ахмере в связи в весенней посевной кампанией, спешили разъехаться до вскрытия реки.
В кантонном комитете шло заседание бюро, посвященное весенним полевым работам.
Секретарь комитета комсомола Галлям Аг- замский приехал сюда из города. Рабочий типографии, он послан был партией для укрепления деревенского актива в тот год, когда у всех на устах был лозунг: «Лицом к деревне». Стройный юноша со светлыми волосами, спадавшими ему на лоб, которые он движением головы закидывал назад, особенно когда стоял на трибуне, Галлям обладал горячим, порывистым характером. Секретарь обкома партии, направляя Агзамского в деревню, предупреждал:
— Помни, Галлям, что пылкость — хорошее качество, но господствовать должен разум. Придется тебе взять себя в руки, научиться выдержке, хладнокровию. Помни, ты едешь в деревню как представитель рабочей молодежи — оправдай доверие!
За два года работы в кантоне Агзамский сильно изменился, стал более уравновешенным и выдержанным.
Накануне совещания Галлям зашел к Казакову, секретарю кантонного комитета партии, рассказать о поставленных на повестке вопросах. Казаков одобрил план Галляма и вручил ему брошюру «Задачи комсомола».
Агзамский очень обрадовался:
— Вот спасибо! В самый раз! А обком комсомола, подумайте только, не удосужился прислать нужный материал. Погодите, будет пленум, я им покажу! Спрошу я их: «Где оперативность? Где своевременность?» — Ладно, ладно, — с улыбкой остановил его Казаков, — побереги свой порох до пленума.
Агзамский поправил ремень, застегнул и снова расстегнул пуговицы кожаной тужурки. Ему не терпелось уйти скорей и познакомить комсомольцев с брошюрой, он ждал, когда Казаков отпустит его.
— Потерпи минутку, — улыбнулся Казаков. Ему нравилась горячность молодого секретаря, но когда нужно он крепко брал его за локоть. — Успеешь! Есть еще вопросы. Ска- жи-ка мне, как работает твой новый инструктор?
— Салих Ягфаров?
— Да.
— Хороший парень! Толк из него будет. Только... — Галлям замялся, — как бы тут сказать... очень уж много он занимается рисованием. Пускай себе рисует, если ему нравится, но ведь это отражается на работе. За то время, пока он рисует, сколько книг можно прочесть!
— Я припоминаю, на встрече с допризывниками был сделан красочный плакат. Не он ли рисовал?
— Он, но...
— Почему же «но»? Чем ты недоволен?
— Товарищ Казаков, до рисунков ли нам теперь! Надо засевать комсомольские десятины, поднимать уровень политического просвещения, ликвидировать неграмотность, бороться с беспризорностью, с бескультурьем, с хулиганством, собирать деньги на комсомольскую эскадрилью. Вон сколько дел! А он рисует! В деревянх, понимаете, кулаки агитируют, чтобы родители не выдавали дочерей за комсомольцев. А за рубежом что делается? В Китае, понимаете, англичане издеваются над китайской молодежью, в Шанхае расстреливают студентов...
— А Салих себе рисует?..
— А Салих себе рисует. Как это вам нравится?
— Очень нравится, — рассмеялся Казаков. Агзамский оторопело взглянул на него.
— Ты говоришь — бороться? Правильно говоришь. Но надо использовать все методы борьбы. Думаешь, нельзя бороться с помощью кисти? Живопись — хороший агитатор, доходчивый, боевой. Вот в деревне Судбазар комсомольцы решили проучить мужа, который бил свою жену. Что же они придумали? Надели на себя шубы мехом наружу, вымазали лица сажей и, выбрав ночь потемнее, забрались под окна этого человека — давай кричать замогильным голосом: «Брось бить свою жену, не то мы тебя со свету сживем!» И что же? Муж перепугался не на шутку, жену больше не трогает. Комсомольцы, ничего не скажешь, женщину в самом деле защитили, а суеверие поддержали. Кажется, о таких говорит башкирская поговорка: «Подводя брови, не выколи глаза». Кто виноват в этом? Комсомольцы! А представь себе карикатуру в стенгазете — перед глазами у всего народа изображен этот муж, да в таком виде, что, хочешь не хочешь, рассмеешься. Твой Салих на такие дела мастер.
Вечером на заседание бюро с активом пришел и Салих. Галлям закинул назад свои волосы, пригладил их ладонью и приступил к докладу. Он начал с брошюры «Задачи комсомола».
— В этой брошюре, — сказал он, — говорится о задачах, поставленных перед комсомолом товарищами Лениным и Сталиным. Завтра, товарищи, вы по очереди прочтите се и хорошенько продумайте, я там подчеркнул некоторые места — вы их выпишите.
Доклад Агзамского заметно отличался от задуманного по плану. Он рекомендовал разнообразные средства и методы агитационной работы, предостерегал от инерции. Потом обратился к Салиху Ягфарову:
— Ты, Салих, давай свои рисунки, попятно? Ты не думай, что тратишь время попусту. Изобразительное искусство — боевое оружие, и напрасно кое-кто его недооценивает, понятно? А рисунки, само собой, должны быть боевые. Нам ни к чему какие-то там картинки, изображающие цветочки, или закат алого солнца за какой-нибудь там горкой, или старичка, сидящего с удочкой у какого-нибудь там тихого озера. Что такое закат солнца? Это же печаль. А мы должны поднимать бодрость духа, чтобы люди устремлялись вперед, чтобы они неслись, подобно стреле... Вот, скажем, паровоз. Почему нам нравится паровоз, когда мы на него смотрим? Потому, что он заражает нас чувством движения вперед. И ты, Салих, изобрази его так: между двух горящих глаз значок КИМ, за паровозом пять вагонов- пять частей света. Паровоз мчится на всех парах, в коммуне — остановка. Нарисуй, чтоб впереди была станция «Коммунизм» и над ней реющий красный флаг! Вот это картина! Она всем будет по душе.
Салих был немало удивлен речью секретаря. Обычно, глядя на его рисунки, Галлям либо бормотал что-нибудь нечленораздельное, либо пренебрежительно махал рукой. А сейчас вдруг бурно приветствовал живопись и сам был похож при этом на паровоз, о котором говорил.
После заседания Агзамский догнал Салиха на улице и по-дружески хлопнул его по плечу.
— Читал стихотворение в сегодняшней газете? Не помню автора, — кажется, Актан- лы, — но здорово!
И встав посредине улицы, Галлям громко продекламировал:
Мы идем к великой цели.
Наша сила — динамит. Горы нас не остановят. Злобный враг не победит.
— Понятно?
— Понятно, — согласился Салих. — Я их читал. Только автор не Актаплы, а Акманлы!
— Ну, молодец! — воскликнул Галлям и, простившись, пошел своей дорогой.
Салиху было приятно, что о его рисунках говорили на бюро, и ему больше, чем всегда, захотелось сейчас рисовать. Ему казалось, что он уже видит перед собой смело поднимающийся в гору огнедышащий могучий паровоз с пятью вагонами. И ничто в мире не в состоянии остановить этот паровоз.
Войдя во двор, Салих увидел сидящих на бревнах Миньямал и Васиму. Ему бросилась в глаза какая-то перемена в лице Миньямал, но он не стал доискиваться причины.
Тут засмеялась Васима.
— Ты что смеешься? — спросил он.
— А ты ничего не заметил? — ответила она, кивнув головой в сторону Миньямал.
На Миньямал было ее обычное коротенькое зеленое платье с черным передником. Голова, туго повязанная платком, казалась меньше обычного.
— Постриглась? — догадался он.
Миньямал крепко сжала голову обеими руками.
— Некрасиво? — спросила она, улыбаясь.
Желая поддержать этот смелый для женщины шаг, Салих похвалил:
— Мне нравится.
— Все девушки постриглись, ну, и я тоже.
— Жалко было?
— Очень. Когда я увидела свои косы па нарах, чуть не заплакала. А после прошло.
— Пустяки! Отдай их в драмкружок, парик сделают.
— Что ты! Я их завернула в газету и положила на самое дно сундука, рядом с хаси- той моей покойной матери. Когда заскучаю, выну и буду любоваться.
— Собираешься скучать по косам? — пренебрежительно заметил Салих.
— Как же не скучать! Ведь я их так любила, холила. Как-то отец выдернул у меня целый клок волос, так я плакала не столько от боли, сколько от этой потери. Я ж их кислым молоком промывала, чтоб они стали нежнее, ухаживала за ними.
— Не жалей, так тебе больше идет. А кислое молоко сама выпей — полезно для здоровья.
— Встретила меня на улице Нафисэ-апа и накинулась: «Да разве можно было такие косы остригать! Дура ты, дура!» Салиху надоел этот разговор о косах.
— Ах, вот зачем ты пришла! Поплакаться, что кос нет?
— Ничуть я не жалею, а пришла потому, что по Васиме соскучилась.
«По Васиме ли ты соскучилась? Не для того ли, чтобы поговорить о Хасане?» — подумал Салих, но ничего не сказал.
Зашли в дом. Миньямал давно не была у них и удивилась, увидев висевший на стене написанный красками портрет красивой девушки в синей блузке и красном платочке.
— Чей это портрет? — живо спросила она.
Особенно понравились Миньямал глаза на портрете — у них было лукавое и счастливое выражение.
Товарищи не раз задавали Салиху этот вопрос, но им, как и Миньямал, Салих уклончиво отвечал: «Вырезал из газеты и увеличил».
Он ни за что не признался бы, что знаком с этой девушкой и зовут ее Корбанбикә.
В комнате Салиха не было нар, только на полу, устланном черным войлоком, лежало несколько подушек. На жерди, тянувшейся от печки до переднего угла, висела шуба хозяина, старика Аубакира, и шаль его жены. На простом, некрашеном столе, сколоченном руками Салиха, валялись бумаги, книги, школьная сумка Васимы. Белоснежная поверхность печки была разрисована, как это принято в деревне: на длинном стебле росли два огромных цветка, желтый и зеленый.
— Это твоя работа? — насмешливо спросила Миньямал.
— А что, плохо? — спросил Салих.
— Где ты видел, чтобы на одном стебле росли два цветка, желтый и зеленый? Уж лучше бы вместо одного цветка изобразил птицу.
— Я бы не прочь, — согласился Салих, — но хозяин будет недоволен. Старик суеверен. «Если, говорит, в доме повесить рисунок птицы, или зверя, или человека, то из дома улетает ангел». Я как-то подарил ему коробку из- под чая с изображением китайца, так он не успокоился до тех пор, пока не соскоблил его ножом. Ну ладно, раз тебе не нравится цветок, я нарисую вместо него паровоз.
— Паровоз на стебле?! — воскликнула Миньямал.
— Да, паровоз, и мало того — еще к нему пять вагонов.
— И все на одном стебле? Не представляю себе.
— А я представляю, — вмешалась Васима, заступаясь за брата.
— От Хасана нет писем? — внезапно спросил Салих.
Ему хотелось смутить Миньямал.
Обычно девушка краснела при этом вопросе. На этот раз она бойко ответила:
— А если получила, что мне за это дашь?
— Нарисую твой портрет в красках.
— Васима! Будь свидетельницей! — сказала Миньямал и вынула из-под передника порядком истертое, видно зачитанное, письмо.
Этой радостью она и пришла поделиться.
Салих протянул было руку, но Миньямал хлопнула его по ладони и письмо в руки не дала.
— Читать разрешаю только из моих рук, вот отсюда, — она указала пальцем место, откуда разрешала прочесть.
Салих сел поближе к лампе, а Миньямал, положив перед ним письмо, закрыла ладонью начало. Салих обратил внимание, что на руке у Миньямал не было ни колец, ни браслетов.
Он был приятно удивлен.
— Где твои кольца?
— А тебе зачем?
— Хочу знать.
— В сундуке, рядом с моими косами.
— Вот как!
— Да...
— Правда?
— Правда! — И добавила горячо: — Мы не дикари, чтоб обвешивать себя побрякушками!
— Поздравляю.
Салих радовался, видя, как развиваются в девушке смелость и чувство независимости.
— Знаешь, Миньямал, — сказал он, залюбовавшись ею. — А ты стала красивее. Посмотрел бы на тебя Хасан!
— Будет тебе! — покраснела Миньямал и по-настоящему смутилась.
В письме Хасана было много новостей об Аккуяне. Бедняки и середняки объединились в артель по совместной обработке земли и назвали свою артель «Красный Тук». Артели выделили землю, помогли купить два хороших плуга марки «Сак» и три железные бороны. «Кулачье, — писал Хасан, — пытается внести в нашу среду разногласия, но я думаю, что это им не удастся сделать, и мы все, как один, выйдем весной в поле с красным флагом. В кооперации дела тоже пошли на улучшение. Поставщиком товаров избрали было брата купца Шангарая — Сафаргарая. Кто-то вбил в голову людям, что нужен человек, знающий торговлю. Так и не удалось их переубедить. Приезжал из волости представитель, но он только подлил масла в огонь: «Сафаргарай, говорит, даже волпотребсоюзу приносит пользу, вам он может во многом помочь». Вскоре, однако, люди убедились, что за птица Сафаргарай, и прогнали его. Члены артели, сложившись, купили сепаратор. Это был удар по старику Шарапу. Он за пользование сепаратором брал в неделю дневной удой молока, а артель за этот же срок берет вдвое меньше. Народ не ходит больше к Шарапу, а ходит к нам в артель. На деньги, полученные за пользование сепаратором, артель приобрела два цинковых ушата, три ведра, измерители молока. Обслуживать сепаратор поставили жену Ташбулата Сабиру».
Салих с возрастающей радостью читал эти волнующие новости. Внезапно рука Миньямал легла на письмо.
— Дальше нельзя...
— Почему?
— Дальше касается только меня. Салих не стал настаивать.
2 Уложив свой дорожный мешок, Салих выглянул в окно. Над речкой повис туман, солнце еще не поднималось, но по всем приметам день обещал быть ясным. Салих собрал в папку с твердыми корешками деловые бумаги, сверху положил краски и кисти.
Дети еще спали, но взрослые уже хлопотали по хозяйству. Старик Аубакир, захватив молоток и гвозди, вышел во двор, жена его Михербану, еще не очнувшись как следует от сна, лениво подбрасывала в огонь хворост.
— Ты что так рано сегодня? — позевывая, спросила она Салиха. — Собираешься куда?
— Да, тетя Михербану, командируют меня в деревню Судбазар.
— В Судбазар? — оживилась она. — Что же ты раньше не сказал?
— А что?
— Да ведь у меня там замужем дочь. Эх, ты! Я бы ей гостинцев собрала.
— Если успеете, я возьму.
В комнату вошел Аубакир, сердито ворча:
— Каждый раз так! Я сунул за желоб дощечку, а кто-то уже успел ее стащить!
— Да кому же ее взять, кроме тебя! Поищи получше. Слыхал? Салих, оказывается, в Судбазар едет. Послать бы Зюхре гостинец!
— Гостинец? Так он и попадет твой дочке в рот, — сердито проворчал Аубакир.
— Скряга там старик, да и старуха обжора, — пояснила Салиху Михербану.
Аубакир сел на чурбан у двери. Лицо у него потемнело; видно, напоминание о дочери больно задело его. Салих понял, что старикам хочется поделиться с ним своим горем, и тоже присел — время у него было.
Красавицу Зюхру отдали за сына Гиляжа из Судбазара, польстившись на его богатство, рассчитывали, что, по крайней мере, не придется дочке голодать и надрываться по хозяйству. А ее там превратили в батрачку. Встает ни свет ни заря, доит четырех коров, чистит под ними; только управится с одним делом, на нее другое взваливают. Масло, сахар запирают от нее, сами наедаются до отвала, а ее с собой за стол не сажают, даже чай пьют отдельно. Заварит Зюхра шалфей в разбитом чайнике, съест ломоть черствого хлеба, тем и сыта, бедняжка.
Муж ее Алим по ночам шатается где-то, возвращается под утро пьяный и бьет жену. В прошлом году, когда Зюхра забеременела, он так избил ее, что случился выкидыш. Три года она замужем и ни разу к родителям не отпустили. Как же! Кто работать-то станет, если она уйдет? Собралась как-то к дочке сама Михербану, всего там насмотрелась, наплакалась, да с тем и вернулась.
Вытирая слезы шершавой ладонью, Ми- хербапу вспоминала:
— А как все случилось? Пришла сваха, обхаживает нас, дом их расхваливает. Старик мой и загорелся. «Отдадим говорит. Богатое там место. Алим у них единственный сын, старики для них ничего не пожалеют». Как же! Они свой собственный саван сожрут, когда умирать станут. Эх, загубили мы дитя своими руками!
— «Дитя, дитя»! — передразнил Аубакир жену, сам еле удерживаясь, чтоб не заплакать. — А ты не будь мямлей, иди в совет, требуй! Теперь не царское время.
— Легко сказать «иди в совет». А что над ней муж да старики потом сделают, подумай только!
— Почему вы раньше никогда об этом не рассказывали? — спросил Салих.
— А что толку, если и рассказали бы? Кто она тебе? Сестра? — покачала головой старуха.
— Я комсомолец! И все угнетенные мне родные. А вмешаться следует. На то суд есть.
— Суд?! — ужаснулась Михербану. — Чтоб моя дочь в суд пошла?
Проснулись дети, Салиху пора было уходить, и хозяйка позвала всех к чаю.
— Сынок! — сказала она, когда они поднялись из-за стола. — Заклинаю тебя, не трогай этого дела. Они же, звери, растерзают бедняжку.
И Михербану снова залилась слезами...
День выдался славный. Припекало солнце, вершины холмов уже обнажились от снега, а дорога почернела, но уходить от нее в сторону было рискованно: неровен час провалишься. Под снегом вода, кругом проталины. Да и на дороге, по которой шагал Салих с длинной палкой в руке, грязь по колено.
В Судбазаре Салиху предстояло ознакомиться с работой комсомольцев и организовать собрание женщин для выборов делегатки на женскую волостную конференцию. Салих находился под сильным впечатлением рассказа старика. «Хорошо, — думал он, — если б выбрали Зюхру. Но это невозможно, ее и на собрание-то вряд ли отпустят. К тому же, если она и свои права защитить не может, как же она защитит права других? Да еще, как ни говори, сноха кулака...» Салих подошел к Судбазару уже под еечер. Стало холодно. Здесь как будто и снегу было больше. К селу подходили три дороги. Вон по одной из них едут сани. Видно, дорога совсем размякла — лошадь ежеминутно проваливается. Салих вгляделся: то ли лошадь показалась ему знакомой, то ли сани, только он провожал их взглядом, пока они не скрылись.
Судбазар встретил его запахом навоза и дыма, криком и беготней ребятишек. Сельсовет, куда он зашел, не отличался от сельсовета Аккуяна — такой же стол, скамейки и два табурета, те же плакаты на стенах, окурки возле печки и в углах. В сельсовете никого не было, но Салиху не пришлось долго дожидаться. Вскоре вошел мужчина в поношенной шинели, лет сорока на вид, и назвал себя Сайфуллиным, председателем сельсовета. Даже не поздоровавшись, он спросил:
— Вы из волости, товарищ, или из кантона?
По лицу председателя было видно, что он чем-то сильно озабочен.
— Из кантона.
Сайфуллин нервно прошелся по комнате.
— Вовремя вас прислали!
— Что-нибудь случилось? — спросил Салих, удивленный тоном, каким были сказаны эти слова.
— Так вы еще ничего не знаете? Сегодня ночью подожгли наш кооператив. Нам повезло, что через село проезжал военком товарищ Горячев. При его содействии поймали мы одного из поджигателей. Спрашиваем: «Кто твои сообщники?» А он знает одно: сам поджег да и только. На днях предстояла ревизия кооператива, вот кому-то и надо было принять меры.
Повернувшись к десятскому, молча стоявшему возле двери, председатель сказал:
— Разыщи Горячева. Надо их вместе поставить на квартиру. А вот он сам, — председатель взглянул в окно. — Отведи их, знаешь, к кому? К Гиляжу. Чтоб накормил, как полагается. Скажи, председатель приказал, и если я услышу жалобу... Погоди, я сам пойду, с ними надо уметь разговаривать, с этими скрягами. Вы, товарищ, — обратился он к Салиху, — чувствуйте себя там как дома. Требуйте все, что нужно, держите себя решительно. Он иного разговора не понимает.
Салих вышел вслед за Сайфуллиным и увидел Горячева, который, стоя у ворот, счищал с сапог прилипшую к ним грязь.
— А, Ягфаров! — обрадовался военком. — И ты прибыл?
Председатель заторопил гостей и быстро зашагал вперед, они еле поспевали за ним. Шел он, не разбирая дороги, прямо по лужам, поднимая фонтаны брызг, бормотал про себя: «Ничего, ничего!» — и спешил дальше.
— Товарищ Сайфуллин, — взмолился Горячев, — выбирай дорогу, а то утопишь нас.
Председатель только отмахнулся и ускорил шаг.
Большой дом Гиляжа находился в середине села, рядом со сгоревшим кооперативом. Салих увидел место пожара. Там лежали в беспорядке обгоревшие бревна и головешки, валялись ящики, белела истлевшая бумага. Снег кругом был затоптан. Следы от человеческих ног, лошадиных копыт и полозьев саней заполнились водой.
— Пойдем, пойдем, — торопил председатель и направился в дом Гиляжа.
Когда они вошли в темную комнату, раздался сердитый голос из угла:
— Кто там?
— Вставай, вставай! Хватит прохлаждаться! — повысил голос Сайфуллин. — Зажигай свет и принимай гостей. Приехали товарищи из кантона.
— Ты бы повежливей, — шепотом проговорил Горячев — Какая тут еще вежливость! — громко ответил председатель. — Они не так с нами разговаривают! С обрезом в одной руке и с бидоном керосина в другой — вот как они с нами разговаривают. Ну, ты там, пошевеливайся! Зови сноху суп варить!
Тот, к кому обращался председатель, засопел в своем углу и стал подниматься. Горячев зажег спичку и осветил человека, копошившегося в углу. Это был сам хозяин низкого роста, широкий в плечах, с ястребиным носом и редкой бородой. Бросив острый взгляд на прибывших, он достал лампу и зажег ее. Гости огляделись. Это был типичный дом, в которых живут так называемые «черные богачи». Дорогих вещей, вроде зеркал, часов, не было. Только на нарах лежали горы ковров и перин, тулупов и шуб, висели отличные кожаные хомуты и седла с медными стременами. От шуб и тулупов пахло нафталином и карболкой.
— Где я возьму мясо? — вымолвил старик, пряча глаза. — Совсем замучили вы меня своими налогами.
— Бараны есть! Барана зарежешь! Не прибедняйся.
Горячев дал знак Сайфуллину, чтоб он ушел. Председатель хотел было еще что-то сказать, но только помахал кулаком перед лицом старика и вышел.
— В этой комнате вы не заснете, — гнусаво проговорил старик, как только за председателем захлопнулась дверь. — Клопы. Может, перейдете на другую половину, сын с женой переберутся на ночь сюда.
— Мы везде уснем, — ответил Горячев и пошел вслед за стариком, освещавшим путь лампой.
Комната, куда он привел гостей, была поменьше и, пожалуй, почище первой, но и здесь валялись ковры и войлоки, стояли кадки и бочки разных размеров, а у самых дверей, прижавшись к стене, лежал теленок.
— А здесь что, нет клопов? — с сомнением в голосе спросил Горячев.
— Не должно быть. Блохи могут попасться. Тараканов много, но они людей не трогают.
Гиляж ушел, оставив лампу. Вскоре дверь снова открылась, и вошла молодая женщина — она внесла самовар. Салих догадался, что это Зюхра, дочь его хозяина Аубакира. Лицо ее было полузакрыто платком. Стройная, чернобровая, она и впрямь была красавицей. Поставив на стол хлеб и молоко, она спросила робко:
— Вы сами разольете чай?
Салих обрадовался, услышав ее голос, и живо откликнулся:
— Спасибо, Зюхра! Мы сами поговорим.
Слово «поговорим» вырвалось у Салиха невольно, рожденное какими-ю его мыслями. Женщина поняла его так, что они сами разольют чай, и растерялась только оттого, что этот незнакомый юноша знает ее имя. Опустив платок, она взглянула на Салиха, ничего больше не сказала и удалилась. Военком решил, что между молодыми людьми существует какая-то тайна.
— А хороша сноха у кулака! Может, конфискуем ее? — рассмеялся он.
Но, видя, что Салих не расположен шутить, заметил:
— Кулак и вправду жйла. Даже масла не прислал. А я проголодался, как волк.
Горячев заснул быстро, только прикоснулся головой к подушке. Салих долго еще ворочался. Он сильно устал, но впечатления дня взбудоражили его и не давали заснуть. Печальный образ Зюхры неотступно стоял перед его глазами. «Чем ей помочь?» — думал он. Миньямал они вытащили из самого болота. Ей повезло. Скоро она вернется в Аккуян и будет там работать секретарем. И Тазкира поднимается в гору. А что было бы с ней, если бы Салих, послушавшись советов старых людей, остался в деревне? Впрочем, и в деревне люди растут. Салих вдруг вспомнил Корбанбикә. Где-то она сейчас? Вероятно, бегает по длинному коридору педтехникума. И у нее судьба счастливая — через два года она окончит техникум. Но почему она просит писать ей в адрес тетки? Стыдится знакомства с ним? Да нет, отогнал от себя Салих эту мысль, просто стесняется.
Салиха начинало клонить ко сну, мысли путались в голове. Днем в талой воде он промочил ноги, и сейчас их покалывало, будто по ним пробегал электрический ток.
«Электрический ток, электрический ток...» Салих вспомнил, как в техникуме ребята, балуясь, совали в штепсель тонкую проволоку и, взявшись за руку, хохотали, вздрагивая от пробегавшего сквозь их тела тока. «Электрический ток... Когда-нибудь и в деревне в каждом доме будет электричество».
Салих совсем уже погрузился в сон и вдруг открыл глаза — сна как не бывало. Он явственно услышал под окном чьи-то голоса. Приподняв голову, он прислушался, затаив дыхание. До него донесся тихий разговор., Замерев, он продолжал слушать, различил отдельные слова: «Неспроста приехали...» Затем Салих услышал скрип осторожно отворяемых дверей. Он быстро вскочил, запер дверь на засов и растолкал Горячева.
— Вставайте, — зашептал он.
Горячев открыл глаза.
— Там люди, — продолжал Салих шепотом. — Мне кажется, они замышляют что-то недоброе.
— Тебе померещилось, — ответил Горячев, закрывая глаза.
— Прислушайтесь сами.
В самом деле, за стеной послышались шаги: в то же время кто-то дернул дверь.
— Кто там? — спокойно спросил Горячев й шепнул Салиху: — Зажги свет!
Люди за дверями засуетились; слышно было, как кто-то хрипло сказал:
— Не канительтесь!
Теперь и у Горячева не осталось сомнения.
Он вытащил наган и приказал Салиху надеть планшет и откинуть его за спину. Салих понял Горячева: создавалось впечатление, что и Салих вооружен.
— Откройте двери! — послышался голос.
— Кто вы и что вам надо?
— Войдем — узнаете.
— Вас спрашивают, что вам надо?
— Проверить документы. Шатаются тут разные типы, а потом горит кооператив.
Горячев стал в сторону и велел Салиху открыть дверь.
— Ты оставайся за дверью, — шепнул он.
Вошли три человека. Горячев сразу отметил, что они выпили, вероятно, для храбрости, одеты наспех — видно, готовились к нападению второпях.
— Не кажется ли вам, дорогие гости, что вы пришли несколько поздно? — спросил с насмешкой Горячев.
Парень в дубленой шубе и шапке-ушанке вышел вперед и, засунув руку в карман, деловито объявил:
— Выкладывайте документы на стол!
— А прежде, приятель, ты сам выложь-ка, что у тебя в кармане: нож или револьвер?
Парень не ожидал такого ответа и сделал шаг назад. Какой-то человек в это время просунул голову в комнату. Лицо его показалось Салиху знакомым.
«Да ведь это Айытбай», — чуть не вскрикнул он.
И в самом деле, это был отец Миньямал. Салих сразу узнал его.
Вид у Айытбая был растерянный, усы и борода в беспорядке. Увидев, какой оборот приняло дело, он исчез — слышно было, как заскрипели половицы под его сапогами. За ним скрылся еще один из пришедших. В это время вошел Гиляж. Он был в одном нижнем белье.
Горячев быстро запер дверь.
— А ну-ка, старик, назови их имена!
— Не знаю я этих людей, не знаю, — заговорил, заикаясь, старик. — Чьи вы сыновья? Из нашей ли деревни? — обратился он к ним.
— Говорите! — прикрикнул Горячев.
Два человека стояли, как пришибленные.
— Говорите! Хуже будет.
Наконец один промямлил:
— Я сын Сайфуллы, Габаш Фатхуллин.
— Сын Сайфуллы? — удивился Гиляж. — Чего же ты бродишь по ночам и беспокоишь людей?
— А ты кто? — обратился Горячев ко второму.
— Его сосед, — уклончиво ответил тот.
— Это еще что за имя?
— Ну, Хайретдин, сын Нажметдина Гима- летдинова.
— Так и говори! Кто убежал?
— Я его знаю, — сказал Салих, — он из нашей деревни — Айытбай Мансуров.
— Там еще один бежал.
— А это дурачок полоумный, — небрежно махнул рукой Гиляж, — сосед наш.
— Фамилия, имя?
— Я и не знаю, под какой он фамилией ходит, — пожал плечами Гиляж.
— Сын Афтаха, Фаттах Гильмутдинов, — ответил Габаш Фатхуллин, стараясь говорить с русским акцентом.
— Погоди, старик, не уходи! — крикнул Горячев Гиляжу, который был уже возле двери.
— Что нужно? — уныло спросил Гиляж, моргая глазами.
— Твое имя и фамилия. Тебе, видно, охота замять дело?
— А мне что? Я хозяин дома. Я спал и вышел на шум.
— Имя, фамилия! — загремел Горячев.
— Гиляж Яугильдин.
Горячев пристально вгляделся поочередно каждому в лицо, будто запоминая их, затем обратился к Габашу Фатхуллину:
— Клади на стол, — и кивнул головой на его карман.
Габаш вытащил из кармана небольшой револьвер, слегка покрытый ржавчиной, и положил на стол.
— А теперь убирайтесь, — сказал Горячев. — Пора спать.
Все поспешно ушли, кроме старика Гиляжа, — он все топтался на месте, почесывая живот.
— Сыты ли вы? — спросил он заискивающе. — Блохи не беспокоят?
— Больше не беспокоят, только что удрали, — усмехнулся Горячев. — Остался таракан. Ну, ползи, ползи к себе!
Гиляж ушел. Военком взял в руки револьвер, открыл барабан и повертел его в руках.
— Покрылся ржавчиной. По всему видно — лежал в сыром месте. Система знакомая, называется «Смит-Вессон». В просторечье — «бульдог», собака есть такая с тупой мордой. Англичане прислали Колчаку несколько вагонов этих игрушек. Как оружие его давно скинули со счетов, даже патронов к нему не выпускают.
Горячев протянул револьвер Салиху.
— Возьми себе на память. Не забудь, когда приедешь, получить в милиции разрешение. Может, еще и для следствия пригодится, номер его запиши. Будешь рассказывать, что подарил тебе друг, по имени Горячев, и эти дни вспомнишь.
Горячев говорил с улыбкой как будто ничего не случилось. Раздевшись, он лег на нары и с наслаждением вытянулся. Салих долго не мог прийти в себя, вертел барабан револьвера, сердце его сильно билось.
— Ведь они приходили нас убить?
— Кто знает? — зевнул Горячев. — Может, в самом деле собирались проверить документы. Для начала, конечно. Дескать, кто такие, с кем приходится иметь дело. Я их раскусил с первого взгляда, мне таких типов приходилось встречать. Они никуда не денутся. Не по собственной воле они действуют — их подослали. Это же подкулачники. Надо быть начеку. Кулаки не сложат оружия, и кто болтает, что это не так, — либо дурак, либо их тайный соучастник. Ленин считал кулаков самой хищной породой собственников. Глядеть надо за ними да поглядывать. Сайфуллин недаром так озабочен, только слишком уж он суетлив. Ты не находишь?
— Весь он на нервах, никакой выдержки!
— Истрепал он свои нервы, а человек неплохой. Боевой путь прошел, чапаевец. При слове «кулак» его всего лихорадит. Хладнокровия не хватает...
— И знаний, понимания того, что происходит.
— Это ты прав, очень прав. Подкуется человек теоретически, у него и хладнокровие появится.
Наутро, только Горячев и Салих успели умыться, как явился старик Гиляж и, почтительно поклонившись, пригласил их на большую половину пить чай. Там все выглядело иначе, чем вчера: пол был устлан большим ковром, на столе кипел самовар, стояли полные тарелки масла и творога. Старик Гиляж стоял посредине комнаты, приветливо приглашая гостей за стол. Салих заметил у окна незнакомого человека — он стоял спиной к вошедшим и даже не обернулся на их шаги, делая вид, что вынимает занозу из пальца. «Должно быть, это и есть муж Зюхры Алим, о котором рассказывала тетя Михербану», — подумал Салих.
Вошла Зюхра с большой сковородкой дымящегося мяса.
— Ого! — воскликнул Горячев. — Вы нас принимаете как гостей!
— А как же? — ответил Гиляж. — Приезд людей из кантона для нас почет. Садись, сынок, не стесняйся, — сказал он, видя, что Салих еще стоит.
Чай разливал сам хозяин. Горячев не заставлял себя просить и ел за двоих. Салих позавидовал такому аппетиту — ему самому есть не хотелось. Он смотрел на мрачного Алима, на старика с его искусственной улыбкой и думал о Зюхре: «Чем помочь ей? Чем помочь?» Заметив нагайку, висевшую у двери, он подумал: «Должно быть, не раз свистела она над ее головой». Салих снова перевел взгляд на Алима — он теперь стоял полуобернувшись, видно, чтобы рассмотреть гостей. Салих успел заметить злое, бледное, без кровинки лицо, буравящие глаза и тонкие, сжатые губы.
— Ты почему за столом ничего не ел? — спросил Салиха Горячев, когда они вышли на улицу. — Неприятно тебе было?
— Да, противно...
Направляя Ягфарова в Судбазар, Агзам- ский говорил ему:
— Ты как раз такой человек, какой там нужен: неторопливый, вдумчивый, серьезный. Судбазарцы неплохие ребята, но иногда перепрыгивают через изгородь.
Галлям поставил на командировочном удостоверении подпись с необыкновенными завитушками и протянул ее Салиху.
— Не забывай писать. Письма тебе помогут продумать свою работу.
Обратно к Гиляжу Салих больше не вернулся. Горячев уехал в кантон, а жить одному в этом доме ему было не по душе. К тому же комсомольцы наперебой звали его к себе, и он решил каждый раз ночевать на новом месте, чтоб никого не обидеть.
У Салиха уже накопился известный опыт работы. Ему приходилось бывать во многих деревнях кантона. В тех деревнях, где были школы крестьянской молодежи, дело было проще — там работали кружки, выпускалась стенная газета, проводились субботники, всеми этими мероприятиями руководили учителя. А здесь задача осложнялась — надо было найти дело, которое объединило бы молодежь.
Улучив свободную минуту, Салих сел за письмо Агзамскому. Написал сначала дату: «1928 год, 15 апреля», а немного ниже:
«Товарищ Агзамский! Я приступил к работе, вернее, — к проверке работы...» И задумался: прав был Галлям — одним перечислением фактов в письме не ограничишься, невольно начнешь продумывать.«В комсомольской ячейке двенадцать человек, из них две девушки; в школе имеется пионерский отряд — не хватает галстуков, нет и комсомольских значков, а у двоих нет билетов». Салих подумал и приписал: «Это отражается на дисциплине».
«Денежные взносы собраны, но почтальон отказался принять деньги, и они хранятся у секретаря — отец его все пристает к нему с просьбой дать ему эти деньги взаймы.
Провели два собрания, на одном я сделал доклад «Каким должен быть комсомолец». Слушали внимательно, сказали, что все поняли, но вопросов не было — не умеют задавать вопросы.
Во время голосования, когда предлагаешь: «Кто за — поднимите руку, кто против — не поднимайте», — происходит путаница. Есть комсомольцы, не знающие, как вести собрание, когда их выбирают председателями.
Я нарисовал для красного уголка картину- паровоз и пять вагонов, как ты тогда советовал. Справлялся насчет истории с комсомольцами, которые, помнишь, перерядившись в чертей, пугали мужа, бившего жену. Все так и было. На собрании ребята признали свое поведение неправильным, но решили молчать из опасения, что тот человек снова примется колотить жену. До зарезу нужен доклад против суеверий, о нечистых силах — черте, сатане и прочем в этом роде, но нет человека, знающего этот вопрос. Учитель сказал, что мало осведомлен по этой части. Если найдешь книгу о черте, пришли, пожалуйста, — я прочитаю и сделаю доклад сам.
На этом заканчиваю, пора идти чистить семена для комсомольской десятины. На днях снова напишу.
С пламенным комсомольским приветом Салих Ягфаров».
Не успел Салих опустить письмо в карман, как в помещение сельсовета, где он сидел, гурьбой ввалились комсомольцы. Одного из них, принесшего лопату, остальные осыпали насмешками.
— Над чем вы смеетесь? — удивился Салих.
— Он собирается чистить семена лопатой.
— Что же тут смешного? Разве лопатой не веют?
— Куда? В грязь?
— Зачем? Надо постлать палас. Можно подумать, что вы никогда не видели, как веют лопатой.
Молодежь собралась, как на праздник: каждый приоделся в лучшее, что у него было. Девушки нарядились в платья, одолженные у жен своих братьев, волосы у них были гладко причесаны. Правда, комсомолки не подвели брови, не нарумянились, а кольца и браслеты оставили в сундуках. Девушки же, надевшие браслеты, опустили рукава до кончиков пальцев и боялись шевельнуть рукой, чтобы не выдать себя. Они слышали, что комсомольский начальник, прибывший из кантона, относится к украшениям отрицательно. И в самом деле, Салих сказал в своем докладе, что разукрашивают себя только дикари и барыньки.
Секретарь судбазарской комсомольской ячейки Загит обратился к ребятам:
— Все это хорошо. А вот кто из вас умеет веять?
— А что же тут особенного? — пренебрежительно заметил юноша с копной рыжих волос на голове. — Это же не машину водить.
— Не машину водить, а сложнее, чем крутить ручку сепаратора.
— Я вам сейчас покажу, как надо веять, — важно объявил рыжеволосый парень. — У кого есть шапка? Зиганша! Дай-ка свою1 Не дожидаясь, пока тот ее снимет, он сорвал с головы Зиганши шапку и стал потряхивать ее в руках, пытаясь изобразить, как веют семена в сите. Однако его движения скорее напоминали движения женщины, которая вытащила голыми руками горячий хлеб из печки и перебрасывает его с ладони на ладонь. Посыпался град шуток.
— Позовем старика Ярми — он нас научит.
■ — Эх, беда, нет у нас веялки! Дали бы нам такую машинку, сразу бы все сделали.
— Да что веялка? У нас и тракторы будут, дай срок. А то еще придумают такую машину, чтобы сама жала, молотила и веяла.
— А машину для мытья спины в бане тебе не нужно? — ехидно спросил кто-то.
Раздался смех. Парень, на которого напали, не остался в долгу:
— Ну, такую машину я и сам изготовлю. Возьму веретено, привяжу намыленное мочало и начну качать — только знай, поворачивайся!
Молодежь пошла на работу с таким запасом энергии, что была явно разочарована и даже раздосадована порученным заданием. На всех оказалось одно сито. Работали пооче-редно. Другие, чтоб не оставаться без дела, принялись перетаскивать мешки, подметать пол. Было весело — перекидывались шутками, хохотали без умолку, звучно жевали серу.
Не прошло и трех часов, как работа была закончена, а сил осталось — горы двигать. Не раз они собирались на помочь — то урожай собрать, то сено выкосить или кизяк заготовить. Весело было и тогда: каждый перед другим силу свою показывал, вместе дело спорилось. Но прежде старались скорей покончить с работой и приняться за угощение, а сейчас хотелось работать и работать.
— Как? Уже расходиться?
— Да ведь только собрались!
Молодежь окружила секретаря ячейки.
— Что хочешь делай — давай работу! Руки чешутся.
— Что мы стоим, как столбы!
Салиху приятно было видеть это воодушевление, и он решил поддержать его.
— Есть работа! — крикнул он. — Пойдемте к школе. Вы же видели, что делается вокруг, — хлам, мусор, смотреть стыдно. Ведь там дети учатся. Не от нас ли зависит, чтоб вместо свалки там вырос сад?
Все с шумом, смехом двинулись к школе, а некоторые, наиболее нетерпеливые, даже побежали вперед. Когда собрались на пустыре возле школы, выяснилось, что нужны кирки, ломы, лопаты. Кинулись за ними по домам. Выходило, что напрасно смеялись над парнем, захватившем лопату. Тот не преминул отыграться.
— Старики давно сказали, — заметил он поучительно: — «Едешь на мельницу — не за- 20Обудь топор. А поедешь в лес — и без того возьмешь».
— А-а! — рассмеялись в ответ. — Знаем, кто это сказал: старик Хазамат, самый молодой зять твоей бабушки. Когда собирали помочь, он никогда не забывал ложки.
В это время со стороны улицы появился Сайфуллин. Перепрыгнув через ручей, протекавший вдоль улицы, он очутился сразу в толпе молодежи и с первого взгляда понял, что затевается.
— Молодцы, ребята! Хорошо придумали! Только давайте организованно. А ну-ка, Шай- хулла, беги к старику Гиляжу за лошадью. Запрягай, не мешкая. Скажи — по приказанию Сайфуллина, на общественные нужды. Ты, ты и ты, — обратился он к другим, — отправитесь в лес за саженцами. Поедете через холм Акана, там не провалитесь. А остальные беритесь за лопаты, убирать мусор. Первого мая проведем здесь митинг. И товарищ Ягфа- ров скажет речь. Ладно, Салих? Не уедешь до праздника?
Сайфуллин был сегодня в приподнятом настроении. Он направлял ход работы.
— А ну, ребята, спойте-ка песню! — крикнул он.
Комсомольцам тоже очень хотелось петь, да на этот раз песня никак не могла наладиться. Другое дело — на покосе, когда девушки поют. А здесь, когда копаешь землю, трудно петь, можно только шутками перебрасываться.
Пришли школьники — им тоже хотелось чем-нибудь помочь. Правда, им не всем досталась работа, но они тоже шумели и суетились среди взрослых.
Когда заходящее солнце осветило своими лучами чистую, прибранную площадь и блестевшие от пота, возбужденные лица, всем стало так радостно, что сама усталость показалась приятной.
Обычно, когда собирали помочь, радовался преимущественно хозяин, у остальных же, если что оставалось в памяти, то, главным образом, шум, смех, стоявший в воздухе, удачные шутки. А сейчас радость была у всех — радость общего успеха. Да и самый результат превзошел ожидания — они сделали куда больше, чем в обычных условиях, когда собирались на помочь, хотя и тогда не ленились и работали не покладая рук.
Это чувство выразил учитель.
— Вот она, коллективная сила! Вот что делает народный труд!
А Сайфуллин сказал тут же:
— Сами удивляетесь тому, что сделали. А сколько еще можете дел наделать, да каких! Мы, коммунисты, не зря говорим: «Создавайте артели, не слушайте кулаков. Коллективный труд — великая сила».
Молодежь расходилась неохотно. Матери и сестры давно уже приходили звать ребят домой обедать, но они только отмахивались. А сейчас, окончив работу, почувствовали волчий аппетит.
На землю опустился сырой, холодный туман, но весна все смелее и смелее вытесняла зиму. И хотя мелкие ручейки и потоки, избороздившие улицы и переулки, затягивались по утрам тонким ледком, стоило выглянуть солнцу, как они вырывались из плена и начинали весело журчать под его ласковыми лучами. И облака, сгустившиеся над головой, вынуждены были в конце концов рассеяться в разные стороны и дать простор прозрачно-синему небу.
Учитель Вахит пригласил Салиха к себе.
— Особого угощения не будет, но посидим, скрасим время беседой.
Жена учителя Хадиса к приходу гостя сварила мяса, прибрала избу и приодела детей. Она была хозяйственная, ловкая. Бросалась в глаза ее редкая для башкирки внешность: тонкий нос, синие глаза и светлые волосы.
— Я и баньку истопила, — встретила она мужа. — Если не боитесь первого сухого пара, ступайте попарьтесь вдвоем.
Учитель и в бане оставался гостеприимным хозяином — подавал Салиху то кумган, то таз, то мочало. Салиху неловко было принимать услуги от пожилого, почтенного человека.
— И рта не раскрывай, — строго ответил учитель. — Ты гость, ухаживать за тобой — моя обязанность и удовольствие. Приезжий из кантона у нас редкость. Даже кто из волости наведается — и тот дорого ценится.
— Приезжий из кантона! — усмехнулся Салих. — Ведь по сравнению с вами я просто мальчик.
— И рта не раскрывай. А ну-ка, повернись, сейчас я отделаю твою спину.
На этот раз Салих решительно воспротивился. Недоставало еще, чтоб старый человек мыл парню спину!
После обеда Салих забежал к Сайфуллину и к секретарю комсомольской ячейки договориться насчет завтрашних дел, а ночевать вернулся к учителю. Самовар давно уже кипел на столе. После чая Салих лег на отведенное ему место, но когда к нему подсел Вахит, привстал — неудобно было лежать в присутствии старика.
— Лежи, лежи, ты гость!
Вахит был в приподнятом настроении, глаза его блестели. Обычно молчаливый, он на этот раз готов был говорить без умолку. Жена его благодарно взглянула на гостя, который привел в такое оживление ее мужа.
— Взять нас, учителей, — заговорил Вахит, словно продолжал давно начатый разговор. — Среди нас стала появляться молодежь, окончившая советскую школу. Что греха таить, недолюбливают их иные старики. Я сам, правду сказать, смотрел на них недоверчиво и все приглядывался: что они знают? Вызвали меня как-то на учительскую конференцию в волость. Познакомился я там с молодыми учителями, только что окончившими педтехникум. О многом мы тогда говорили с ними, они просили меня поделиться своим опытом, а я расспрашивал, чему их учили. Они охотно рассказывают. Я слушал и готов сквозь землю провалиться. И действительно, что мы могли знать, окончив медресе? А теперь и методика обучения, и вся система воспитания иная. Оказывается, целая литература имеется, а я не следил за ней, не знал. Вернулся я домой совсем другим человеком. В прежнее время запаса знаний, полученных в училище, надолго хватало.
— А теперь? — спросил Салих. — Теперь разве знания непрочные?
— Нет, Салих, я не то хотел сказать. Я хотел сказать, родной мой, что жизнь теперь движется с такой быстротой, с какой еще никогда не двигалась. И если не пополнять запас своих знаний каждый день, они быстро иссякнут. Не успеешь оглянуться, как отстанешь. Вот, признаюсь тебе, стыдно мне, что я раньше не замечал нашу молодежь, — ведь сегодня, по правде сказать, я впервые увидел, что такое комсомольцы и какие силы скрыты в каждом.
«Интересно, — подумал Салих, — ведь глаза его светятя счастьем. И счастлив он оттого, что поверил в человека, понял, на что способны наши люди».
— Недаром, — сказал он, — первый субботник, на котором простым рабочим трудился великий вождь, назван коммунистическим. Вы сегодня, Вахит-агай, поразились, как мы работали.
— Да, и до сих пор я не вполне еще разобрался, почему.
— Потому, что вы сегодня заглянули в будущее. И сказали мудро: какие силы в каждом! И что будет, если эти силы объединить!
Тут Салих и для наглядности, и оттого, что ему самому легче было говорить конкретно, и из своего пристрастия к живописи стал рассказывать о картине Репина «Бурлаки». Вахит видел эту картину в репродукции, но Салих подробно описал ее, чтоб было понятно также и Хадисе.
— Я часто ходил смотреть ее в наш музей в Уфе, — конечно, там только копия, а сама картина висит в Москве, в Третьяковской галерее. Женщина, которая объясняет, экскурсовод, рассказывала нам о значении картины. Она говорила: «Вот перед вами подневольные, забитые люди на капиталистической каторге». Она правильно сказала, но мало, не все. Моя учительница русского языка Мария Николаевна, когда мы с ней были в музее, объяснила полнее. «Ведь глядя на этих бурлаков, говорила она, чувствуешь не только печаль и гнев, но еще и гордость за них, уважение к ним и радость, что есть такие люди. Какая могучая сила переливается в каждом из них! Чего только не совершат эти богатыри, пусть только сорвут аркан со своей шеи». А теперь я думаю, Вахит-агай, на что будет способен наш свободный народ, если он объединится в коллективные хозяйства, как это уже сделали во многих местах нашей страны!
Рассказ Салиха еще больше взбудоражил учителя! Он стал засылать его вопросами, просил рассказать о колхозах, о новых людях, новых книгах.
— Ай, Салих, как хорошо, что ты приехал! Я с тобой стал таким же молодым, как ты.
— А мне кажется, — заметила Хадиса, — что значительно моложе: он как-никак джигит, а ты ведешь себя как ребенок. Дай гостю покой, да и сам угомонись, рассвет скоро. Спать пора.
— Не хочу я спать, жена! Сон пропал. Хочу разговаривать долго-долго, чтобы душу отвести. Сколько провел я бессонных ночей! Ио тогда меня что-то мучило, а теперь другое — теперь радость не дает мне спать...
Хадиса рассмеялась этой вспышке, любовно глядя на мужа. Салих тоже улыбнулся.
— Спать, спать! — тихо повторила женщина и прикрутила огонь в лампе.
Волей-неволей пришлось Вахиту пойти на свое место.
Было душно из-за сильно натопленной печи, да и самовар кипел целый день.
— Жена, открой окно, — попросил учитель.
Вместе с прохладным воздухом в избу ворвался шум реки.
— Опять весна, — мечтательно сказал Вахит. — Снова весна, — громко повторил он, в надежде, что завяжется разговор, хотя бы в темноте.
Но Салих уже спал, а жена промолчала.
4 На дверях сельсовета, кооператива и школы развешаны яркие, издалека бросающиеся в глаза плакаты. На них изображена женщина, поднимающаяся к вершине горы с красным флагом в руке. Внизу крупными буквами написано:
«Сегодня в 10 часов вечера в помещении школы состоится общее собрание женщин и девушек деревни Судбазар.
На повестке дня два вопроса:
1. Права женщин в советском государстве.
2. Выборы делегаток на 4-ю волостную конференцию женщин и девушек.
После собрания концерт с участием комсомольцев и несоюзной молодежи».
Вся деревня только и говорила о предстоящем собрании. Комсомольцы объясняли всем, зачем созывается собрание. Такие объяснения были очень нужны, так как по селу уже ходили разные сплетни.
— Знаешь, зачем это собрание? — тараторила какая-нибудь кумушка. — Позовут туда женщину и спросят: «Хочешь иметь права?» И если она, несчастная, ответит: «Хочу», — ее тотчас же запишут. А раз записали — кончено, не своя она и не мужняя.
— А землю, — поддерживала ее другая, — будто на две части поделят, в одной поселят женщин, в другой — мужчин. Говорят, в сельпо уже и ложки привезли, особые для мужчин, особые для женщин.
— А еще говорят, — вступала в беседу третья, — выберут делегатку, увезут ее в волость и сделают там милиционером. И оденут ее как милиционера, и будет она всех мужчин арестовывать, которые жен своих бьют. И жалованье ей особое пойдет.
— Хватит вам пустое болтать! — смеялись другие. — Как может советская власть обидеть женщину? Вздор! Просто соберут нас и будут объяснять законы. Какие они и что означают. Не одним же мужчинам законы знать.
Женщины были взбудоражены, хоть и старались показывать вид, что их не интересует предстоящее собрание. Заходили друг к дружке и подолгу шушукались. И многие решили так: «Посмотрим, как другие. Другие пойдут — и мы пойдем». С работой по дому старались, однако, управиться пораньше, коров подоили еще до заката солнца. Невестки угождали, чем могли, свекровям, чтоб те не придирались. Масло сбили, полы вымыли, а были и такие, что даже печи побелели. Мужья и старики со старухами диву давались:
— Они и к празднику так не готовятся!
Вечером молодежь собралась вовремя, замужних и пожилых женщин не было видно.
Доклад должен был сделать учитель Вахит. Готовился он вместе с Салихом. Материалов у них было мало — инструкция, привезенная Салихом, да кое-какие газеты. Решили дополнить фактами, известными из жизни Судбазара и других окрестных деревень. Составили нечто вроде тезисов, и в целом получилось неплохо.
Хуже было, что слушательницы не являлись.
Сайфуллин, Вахит, Салих, секретарь ячейки Загит сидели в сельсовете, рассудив, что им удобнее явиться последними. «А то, знаете, они оробеют при виде официального лица, — заметил Сайфуллин. — Здесь нужна особая политика», — и он подчеркнул слово «особая», значительно подняв палец.
— Не послать ли по домам десятского? — предложил Вахит.
— Нет! — веско возразил Сайфуллин. — Тут требуется особая политика.
«Видно, длительная беседа с ним военкома Горячева не прошла даром», — подумал Салих.
А женщин все еще не было видно.
— Неужели посылать десятского? — волновался Загит.
Пришлось послать девушек и с ними Хадису, жену учителя.
Сайфуллин сам наставлял их:
— Первым делом зайдите к более смелым, знаете, к таким, которые за словом в карман не полезут, — им самим, видно, не терпится выйти, нужен только толчок. Зайдите к Бадар, Зейнаб, Гюльямал, Фарикэ, Алмабикә да и к моей жене зайдите.
Девушки пошли, а Сайфуллин и другие расположились у окна сельсовета, чтоб удобнее было наблюдать за движением на улице.
— Подзорной трубы не хватает, — рассмеялся Сайфуллин. — Вспомнилась мне война, тысяча девятьсот шестнадцатый год, только с другой стороны.
— Как с другой стороны?
— Тогда, замаскированные, мы выжидали появления неприятеля, а сейчас, тоже из укрытия, высматриваем дружественную силу.
— Идет! — не своим голосом закричал За- гит.
— Где? Где? — и все четверо прильнули к стеклу.
В самом деле, посредине улицы шла высокая, полная женщина с головой, повязанной шалью.
— Храбро идет! — заметил Вахит.
— Кто это? — спросил Салих.
— Не вижу, — сказал Сайфуллин.
■ — Да это же тетя Бадар! — воскликнул Загит.
— Бадар?
— Она, она!
Бадар, жена бедняка, была известна всей деревне своим бойким нравом. Правда, ее нрав до сих пор приносил больше вреда, чем пользы. Когда в прошлом году сельсовет раздавал семена капусты и огурцов для разведения огородов, Бадар первая выступила против. Она отбила охоту даже у тех, кто собирался посадить огород. «Я не Марфа, — кричала она, — чтоб капусту растить!» Все же, когда люди потянулись за семенами, и она не отказалась, пренебрежительно объяснив окружающим, что поджарит их детям вместо подсолнуха. Однако эти семена она посадила, следила за всходами и вырастила прекрасный огород. Потом она выставляла свой огород как образцовый и так же бойко хвалила семена, как раньше их ругала. «Спасибо Марфе, — говорила она во всеуслышание, — научила меня!» И теперь эта самая Бадар шла посредине улицы. Подойдя к школе, она помедлила минуту и затем, словно обругав самое себя за нерешительность, смело вошла в помещение.
— Да будет твоя нога легкой! — торжественно провозгласил учитель Вахит.
— Как на наблюдательном пункте! — повторил Сайфуллин.
— Вторая идет, — сказал Загит. — И Зей- наб-апа вышла из ворот.
— А вот Маргуба...
— Еще трое!
Постепенно безлюдная до того улица оживилась, из переулков и домов выходили женщины и, уже не стесняясь, как бы поощряемые друг дружкой, входили в здание школы.
— Пора, — сказал Сайфуллин и повернулся к учителю.
Вахит поднялся с места и сказал полуторжественно, полунасмешливо:
— В добрый час!
Женщин собралось довольно много. Пришла даже Закира, мужа которой пугали комсомольцы, переодевшись чертями.
Приступили к выборам председателя и секретаря. Организаторам собрания хотелось, чтоб женщины сами назвали кандидатуры, но это оказалось наиболее трудным.
— Сами и председательствуйте, — отвечали женщины, — а нас не трогайте.
Вахит назвал имя Бадар. Та так и взъерошилась:
— Ну да, как же! Стану я там торчать, как портрет!
После долгих уговоров и препирательств избрали Хадису председателем, а комсомолку Сафуру секретарем. Хадиса редко бывала на собраниях, и сейчас, когда ее избрали председателем, она растерялась. Но Загит обещал ей сидеть сзади и подсказывать, что надо делать и что говорить.
Доклад был подготовлен довольно толково. Правда, Вахит иногда не столько говорил, сколько декламировал, но все же доклад понравился и дошел до сердца.
Когда докладчик сел, начались новые затруднения. Все молчали, точно воды в рот набрали. И сколько ни бился Сайфуллин со своими друзьями, женщины не решались задавать вопросы и только отделывались словами: «О чем же спаршивать, когда все понятно?» Наконец, одна из женщин, обращаясь не столько к докладчику, сколько к своей соседке, но так, чтобы слышно было и докладчику, спросила:
— Если у какого мужа две жены, что им делать?
— Советская власть дала им свободу. Если хотят, они могут уйти от мужа, если же не хотят, то пусть и живут по-прежнему, — ответил Вахит.
— А если некоторые мужья колотят своих жен с утра до вечера? — проговорила женщина, продолжая обращаться к своей соседке.
Эти слова задели Закиру, она вскочила с места.
— Моего мужа не касайтесь! Живем, слава богу, в добром согласии. А так чего не бывает? Где пьют, там и посуду бьют.
— Тебе теперь хорошо живется, — сказал Вахит, — но другим каково? Ты возьми, к примеру, бедняжку Зюхру, сноху Гиляжа. Ведь как над ней измывается пьяница Алим! И це- на-то ему грош, обмажь его сметаной и брось собаке — и та не съест.
— Чего же она ему покоряется? — вырвался чей-то голос. — Разве есть такой закон?
— Такого закона нет, — веско произнес Сайфуллин.
Разговор стал общим — именно разговор, а не чередование речей, как принято на собраниях. Правда, Сайфулилн пытался было навести обычный в таких случаях порядок, но это не только не помогло, а скорее повредило. Все сразу замолчали, словно воды в рот набрали.
Салих шепнул Сайфуллину:
— Не все сразу. Для начала и это неплохо. Сайфуллин кивнул головой, соглашаясь. По второму вопросу, о выборах делегатки, возникли новые осложнения. Одну делегатку избрали легко и сразу.
— Пускай Хадиса едет.
— Она жена учителя.
— На почетном месте сидит.
— И мужчин не стесняется.
Хадиса согласилась, но ее задели слова, будто она не стесняется мужчин. Было в этом замечании что-то обидное и двусмысленное. Она, и правда, не скрывала свое лицо передмужчинами, но только потому, что уважала себя как женщину, а не от чего-либо другого.
Однажды, когда ей понадобилось поехать в волостную больницу, ее подвез на своем тарантасе хальфа Давлеткирей.
Давлеткирей с обычной для него шутливостью сказал Вахиту, вышедшему провожать жену:
— Как ты не боишься доверить мне, такому красивому мужчине, свою жену?
Они ехали только вдвоем, сидели рядом. По дороге сделали привал, накосили сена и накормили коня, но в течение всего пути Давлеткирей ни словом, ни взглядом не позволил себе ничего, что не подобало, — не коснулся ее ни плечом, ни локтем, хотя беспрестанно шутил и дурачился. Этот случай произвел на Хадису сильное впечатление. Вот они всю дорогу разговаривали друг с другом, как человек с человеком, и были очень довольны беседой. Значит, могут существовать и другие отношения, не только те, какие принято считать единственными между мужчиной и женщиной.
Хадису избрали на конференцию, но вторую делегатку найти было значительно труднее.
Пробовали было выдвинуть Зейнаб. Но она в ужасе замахала руками, и все та же неугомонная тетка Бадар «вступилась» за нее:
— Ее не троньте. Она смирная жена! А вы ее там живо с пути свернете! Наслышались мы, что с делегатками творят. Вон там сидит парень, смазливый такой, два имени у него — и Салихом зовут, и Ягфаром. На прошлой неделе приезжал из их деревни купец Шангарай, рассказывал, как этот джигит одну девушку- красавицу, по имени Миньямал, завлек разговорами о комсомоле, услал ее куда-то тайно и сам потом за ней ускакал, дом бросил, фундамент оставил. А теперь она живет у него все равно как жена. «Смотрите, — говорит Шангарай, — ходит он сейчас вокруг да высматривает, а потом и скроется с чьей-нибудь дочкой...» Салих вспомнил показавшиеся знакомыми сани на дороге, ночь в доме старика Гиляжа, встречу с Айытбаем, — сейчас он догадался, что ехал тогда Шангарай.
— Тетя, — сказал Салих, поднявшись с места, — простите, что перебиваю вас. Человек, который наговорил на меня, купец Шангарай, приехал к вам в тот день, когда хотели убить военкома Горячева?
— Не знаю, в какой день, не припомню. Да разве мы знаем, что у вас делается каждый день? Приехал, значит, приехал... — Ба- дар огляделась по сторонам, потеряв нить своего рассказа. — О чем я говорила-то? — спросила она.
Салих помог ей:
— Про меня говорили, все ругали.
— Да, да, про тебя! А что, нельзя про тебя? Думаешь, боюсь? Какой хитрый! Недаром два имени носит. Запутал меня, чтоб забыла я, о чем речь. О Зейнаб речь. Не пустим ее, никуда не пустим, хватит одной Миньямал!
Сайфуллин прервал ее:
— Ближе к делу, гражданка! Речь идет о том, кого выбирать. А то, что вы, гражданка Бадар, здесь плетете, есть чистейший саботаж!
Салих слегка толкнул Сайфуллина: дескать, не к месту горячишься.
— Сабата я не плету! Я говорю правду. Сама слышала.
— Уж слишком ты много говоришь, Бадар! — снова не выдержал Сайфуллин. — То из вас слова не вытянешь, то остановить нельзя.
— А тебе какое дело! Ты кто? Мужской председатель. А у нас есть свой, женский! Пускай Хадиса мне и скажет, а ты мне не указ!
Все рассмеялись, даже Сайфуллин улыбнулся.
Салих, подчиняясь какому-то безотчетному чувству, в котором он только впоследствии разобрался, неожиданно встал и предложил:
— Давайте выберем тетю Бадар.
Наступило молчание. Такого поворота дела никто не ожидал.
Бадар подозрительно взглянула на Салиха: не скрывается ли здесь какой-нибудь подвох?
— Какая я тебе тетя? — огрызнулась она в ответ. — Я, слава богу, не сестра твоего отца.
— Ну, тогда апа...
— И не апа я тебе, не твоя мать меня родила.
— Как же мне называть вас? Кто вы?
— Кто я? Человек, вот кто.
Салих понимал, что перебранка ни к чему не приведет, и попросил слова.
— Сестры и тети! — начал он. — Бадар-апа спрашивает: могу ли я понять, что она человек? Могу понять! И Сайфуллин-агай может понять, и учитель Вахит, и комсомолец Загит — все они могут понят. А вот купец Шангарай, приезжавший сюда, чтоб мутить вас, он этого понять не может и не хочет. Он боится, как бы тетя Бадар не стала человеком. Потому что тогда ему не сдобровать. Все, что он рассказывал насчет Миньямал и меня, — все неправда. Могу, если хотите, рассказать вам историю Миньямал, но попозже. А сейчас надо разрешить главное, из-за чего мы сюда собрались, — выбрать делегатку. Я почему предлагаю тетю Бадар: она хочет настоящей правды, только еще путается и не знает, где она. Я верю, что она станет настоящей активисткой и защитницей женщин. Пусть она и поедет на конференцию, там она многое поймет. Давайте выберем тетю Бадар!
Все молча взглянули на Бадар, она тоже молчала — речь Салиха произвела на нее впечатление.
— Ну как, Бадар, ты согласна? — спросила ее Хадиса дружески.
— А тебя спрашивали, когда выбирали? — огрызнулась Бадар, но в голосе ее не было прежнего яда.
Была избрана, таким образом, и вторая делегатка. В заключение Салих рассказал историю Миньямал.
Когда женщины разошлись, в школе остались Сайфуллин, Салих, Вахит, Загит и Хадиса; они вдруг почувствовали необыкновенную усталость, будто целый день сено косили.
— Не легче, чем какой-нибудь бой, — сказал Сайфуллин, вытирая со лба крупные капли пота.
— А вы как думали, Сайфуллин-агай? — заметил Салих. — Бой и был!
— И не без успеха, — резюмировал Загит.
— Ай, чертовка эта Бадар! Выступила против, а сама ехать не прочь. Интересно, какой она вернется домой.
— В добрый час, — произнес верный себе Вахит.
Сайфуллин неторопливо свернул папиросу и подошел прикурить к лампе, но Вахит остановил его:
— Здесь школа.
— Ох, уж этот мне хальфа! — Сайфуллин спрятал папиросу.
— Ошибаешься, Сайфуллин, — важно произнес учитель, — я уже не хальфа, особенно после сегодняшнего собрания, а педагог, советский педагог...
— Тетя Бадар шепнула мне перед уходом, чтоб я зашел к ней завтра, — сказал Салих.
— O-ol Все понятно, — рассмеялся Сайфуллин. — Смотри, не укради ее, как Миньямал.
Все расхохотались.
5 Агзамский зашел в маленькую комнатку, где помещалась канцелярия канткома комсомола, и критически оглядел ее. Поднял валявшиеся на полу скомканные бумажки, поправил плакаты, приколотые к стене, сдул с них пыль, сменил на всех столах газеты, проверил чернильные приборы. И снова оглядел комнату — как будто стало лучше.
Не далее как вчера Казаков заметил ему:
— Комсомол во всех отношениях должен служить образцом. А как твоя канцелярия, — спросил он как бы между прочим, — в образцовом порядке?
Догадываясь, что Казаков заходил туда и остался недоволен, Агзамский начал оправдываться:
— Летом мало бываешь в канцелярии. Люди в разъездах.
— И сторож в командировке?
— Сторож обслуживает три учреждения.
— Твое учреждение величиной с ладонь. Если вы заведете привычку уделять ему каждый день хотя бы по десять минут — оно будет сверкать. Берите пример с комсомольцев Судбазара — они всю деревню привели в порядок.
Агзамскому приятно было, что похвалили судбазарских комсомольцев. В начале весны Казаков, побывав там, обнаружил ряд неполадок и перегибов. А сегодня отозвался одобрительно.
И Агзамский гордо сказал:
— Там же был мой инструктор Ягфаров!
Замечание Казакова возымело действие, и Агзамский с утра прибежал в канцелярию, чтобы привести ее в порядок. Он критически осмотрел ее и сказал, подражая голосу Казакова: «А теперь, пожалуй, стало лучше».
Агзамский старался во всем походить на Казакова. Председательствуя на заседаниях, он, сам того не замечая, копировал Казакова. Сама личность Казакова помогла ему побороть вспыльчивость и несдержанность своей натуры. Даже внешние манеры он перенимал у Казакова и, хотя на километр кругом мог уловить любой звук, морщил лоб, переспрашивая: «А?», и наклонял к собеседнику правое ухо. Ему приятно было, если люди говорили, что он похож на Казакова, его даже называли «маленьким Казаковым». Внешнего сходства между ними не было никакого: Галлям светловолосый, худощавый, а Казаков черный и довольно плотный.
Агзамский сел за стол, он дожидался Салиха. Разговор предстоял не из приятных. Пока Салих был в Судбазаре, в кантком пришли письма, в которых его обвиняли в нешуточных делах.
Правда, он с успехом съездил в Судбазар, и сам Казаков отметил это, но все же надо все проверить. Поговорить с ним предварительно, и если то, что написано в письме, подтвердится, поставить вопрос на бюро кантко- ма. В этот момент открылась дверь и вошел Салих. Воротник его белой косоворотки был расстегнут, в руках он держал свернутую трубкой газету.
— Садись, — Агзамский указал Салиху на стул, — рассказывай про сегодняшнее совещание.
Салих подробно рассказал о совещании в наробразе по вопросу о подготовке школ к новому учебному году.
Агзамский молча слушал его и, когда Салих кончил, постучал карандашом по папке, как это делал Казаков, и спросил:
— Ну-с, товарищ живописец, расскажи-ка ты нам теперь про свои художества.
Салих не понял вопроса и недоуменно молчал.
— Скажи-ка мне, что поделывает, например, твоя Миньямал, — не видать ее что-то в последнее время.
Салиху показался странным тон Агзамско- го и особенно его выражение «твоя Миньямал».
— Почему же она «моя»? — спросил он.
■ — Как же не твоя! Ведь ты принимал активное участие в приеме ее в комсомол, ты помогал ей устроиться в кантоне. К тому же, и обстоятельства ее приема в комсомол довольно интересны...
— Не понимаю.
— Не понимаешь? Объясню. Вы когда приняли ее в комсомол?
— Прошлой осенью...
■ — Осень длится три месяца.
— В сентябре.
■ — В сентябре, товарищ. Ягфаров, если не ошибаюсь, тридцать дней. Какого именно сентября?
Салих задумался, пытаясь вспомнить число и недоумевая, какое это может иметь значение.
— Забыл, — сказал он.
— Я напомню!
И, вытащив из ящика стола бумагу, Агзам- ский положил ее на стол со словами: «Третьего сентября».
— Возможно.
— Не возможно, а точно. Третьего сентября. Приехала она в кантон в конце августа и с тех пор не возвращалась в Аккуян. Что же получается? Получается, что Миньямал принимали в комсомол в ее отсутствие.
— Да, но... — неуверенно заметил Салих.
— Я хорошо помню — лично вручил ей би«лет в ноябре месяце, когда из волости пришли бумаги, вот за этим самым столом. Где она теперь?
— Сегодня уехала в Аккуян, секретарем сельсовета. Я даже не успел проводить ее.
Агзамский ничего не сказал, только пристально взглянул на Салиха, постукивая карандашом по столу. Тишина в комнате давила Салиха. Наконец, он произнес:
— Она не показала себя плохой комсомолкой.
Агзамский бросил на Салиха насмешливый взгляд.
— Чья она дочь?
Перед глазами Салиха встал Айытбай. Вот Айытбай догоняет его и Хасана на улице, зазывая к себе на помочь; вот в пьяном виде, засучив рукава, врывается на комсомольское собрание; вот он среди покушавшихся на военкома Горячева.
— Дочь конокрада, — ответил Салих.
— Дочь конокрада, деклассированного элемента, — жестко подчеркнул Агзамский.
— Получается, что я виноват?.. — губы у Салиха дрогнули.
— Ты еще сомневаешься? — сухо спросил Агзамский.
Салих почувствовал, что он летит куда-то в яму и что ему не за что уцепиться. Ему стало душно, хотя окна были открыты настежь.
— Это еще не все, — продолжал Агзамский.
Он вынул из ящика какую-то новую бумагу и, глядя на нее, спросил:
— У тебя есть лошадь?
— Жеребенок-трехлетка, — робко заметил Салих. — Правда, с тех пор как я уехал, он, наверное, вырос.
— Ты его сдал в кооператив?
— Да.
— И получаешь за него деньги?
— Два раза по тридцать рублей присылали.
— Куда ты девал эти деньги?
— Тридцать на себя израсходовал, а тридцать послал в город, сестре Тазкире.
— А ты не подумал о том, что получать подобным образом деньги недостойно комсомольца?
— Честно говоря, не подумал.
— Я объясню, — наставительно заметил Агзамский. — В деревнях некоторые крестьяне держат сепаратор. Крестьянин, у которого нет сепаратора, пользуясь им в течение недели, отдает хозяину дневной удой молока. Представь себе крестьян, пользующихся этим сепаратором: они сами крутят ручку сепаратора, сами его чистят, и если сепаратором пользуются семь человек, хозяин, ровно ничего не делая, получает каждый день ведро молока. Понятно? Приведу другой пример. Мой отец живет в городе, снимает комнату. Кроме него в доме живут еще две семьи, а хозяин дома четвертый. Жильцы платят владельцу по двадцать рублей в месяц да сверх того делают ремонт за свой счет. Выходит, что хозяин, ничего не делая, каждый месяц получает шестьдесят рублей. Один благодаря своему сепаратору, другой благодаря своему дому, а ты, комсомолец, член бюро канткома, инструктор, благодаря своему коню наживаешься за чужой счет. Понятно?
Салих был совершенно подавлен.
— Что же ты молчишь? — спросил Агзам- ский.
— Я не знал, что так получится, — еле проговорил Салих, к горлу его подступили слезы.
— Так или иначе, готовься дать ответ перед бюро.
Агзамский поднялся, собираясь уходить. Салих подошел к нему, как бы не желая отпускать его.
— Что? — нахмурил брови Агзамский. — Не собираешься ли ты просить меня не ставить на бюро? Да, верно, я тебя даже ставил в пример другим. Ты мой друг, но прежде всего ты для меня комсомолец! Понятно?
— Ошибаешься, я вовсе не об этом хотел сказать.
— О чем же? — сухо спросил Агзамский.
Салих отступил на шаг.
— За мной есть еще проступок, о котором ты не знаешь.
Салих вынул из кармана револьвер, подаренный Горячевым, и рассказал, при каких обстоятельствах он его получил.
— Несмотря на предупреждение Горячева, — добавил Салих, — я до сих пор не удосужился зайти в милицию за разрешением.
Агзамский стал рассматривать револьвер и очень оживился:
— Подумай-ка, совсем не похож на наган. Барабан вращается, а дырочек не видно. А ну-ка, покажи, куда кладут пули.
Салих открыл револьвер, словно разложил на две части, обнажив барабан.
— Ловко! — удивился Агзамский. — А ты стрелял? Здорово бьет? — спрашивал он с детским любопытством.
— Не пробовал.
— Давай попробуем! Приходи ко мне вечером, постреляем. А сейчас я его возьму.
На улице их встретил сильный ветер, поднимавший тучи пыли. Не обращая на это внимания, Салих медленно шел домой. Голова его разламывалась на части. Три большие ошибки допущены им. Да ошибки ли только? Не преступления ли? Правда, он ни на минуту не задумывался, что совершает преступление, наоборот, ему казалось, что он поступает правильно. А револьвер? Ведь он знал, что его нужно зарегистрировать. Безответственность — вот что, это во-первых, а во-вторых — ребячье легкомыслие. Это тебе не пугач, а оружие, детство давно прошло.
Салих вдруг остановился. Он вспоминал, с каким сочувствием смотрел на Зюхру, сноху кулака. «Да, она сноха кулака, — возразил Салих самому себе, — и в то же время дочь середняка, старика Аубакира. Ее выдали замуж против ее воли, мужа она не любит и боится. Что же, разве так и бросить ее и не пытаться вырвать из хищных когтей этих зверей? Я обязан помочь ей, я комсомолец. «А Миньямал, дочь конокрада?.. — сказал в нем какой-то голос. — Ее ты тоже пожалел?» Салих был растерян. Он снова остановился. Может быть, он слеп в вопросах классовой борьбы? Нет, он всегда смотрит, кто свой, а кто чужой, и не было случая, чтоб он якшался с врагами. Когда еще в Аккуяне к нему пришла дочь муллы Хаерниса с просьбой дать ей рекомендацию для поступления в комсомол, он наотрез отказал. Хаерниса приходилась ему родственницей, но он не колебался ни минуты. Из-за этого Нафисэ сколько времени дулась на него, а брат Фарук даже рассердился. «Перестаньте, — кричал он, — путать башкирского муллу с русским попом. Мулла нам родственник, это что-нибув да значит!» Но на Салиха эти слова не произвели никакого впечатления.
А сейчас вот он, Салих Ягфаров, предстанет перед бюро! До чего же стыдно!
Охваченный тяжелыми мыслями, Салих не заметил, как прошел мимо своего дома. Его окликнула Васима:
— Агай, ты куда идешь?
Салих взглянул на нее непонимающими глазами, как разбуженный ото сна. Но быстро пришел в себя и сказал, что собирался зайти к одному знакомому, но, так и быть, отложит до другого раза. Он прошел прямо к себе в комнату, и Васима, по обыкновению, стала выкладывать брату новости за день:
— Миньямал-апа в деревню уехала. А мы с тетей Нафисэ провожали ее. Тетя Нафисэ угостила меня полной чашкой сметаны с сахаром, потом ягодами. Говорила, что когда она поедет в деревню, то и меня возьмет с собой. А Миньямал-апа тебе письмо оставила.
— Где письмо? — Разворачивая его, Салих спросил: — Нафисэ читала?
— Два раза.
— А! — с досадой воскликнул Салих. Хотел сказать: «Зачем давала?» — но удержался. «Стоит ли обижать девочку? Что с возу упало, то пропало».
Хотя посторонних в комнате не было, Салих отошел в угол и стал читать письмо про себя.
«Письмо посылаю — ответа ожидаю ’. Салих, тысячу приветов! Как же так получилось, что ты не пришел проводить меня? Ведь мы были друзьями. Я в обиде на тебя.
Приеду в Аккуян и сделаю все так, как ты советовал. Заеду не к своим родителям, а сам знаешь, к кому, — к его родителям. Хорошо бы застать его в деревне. Буду ему верным помощником, наладим мы с ним работу в комсомоле. Ты останешься доволен.
С приветом М., продолжающая сердиться за то, что ее не проводили».
— Пойдем, Васима, в поле, — сказал Салих неожиданно. Ему тесно было дома.
Васима запрыгала от радости.
Они пошли в сторону горы Сугатэ и поднялись на нее. Оттуда окрестности были видны, как на ладони. Но ни красота природы, ни щебетанье Васимы не могли вернуть Салиху душевного покоя.
Возвращались домой они только к вечеру. Проходя мимо канткома партии, Салих заметил в окне Казакова. Напротив него сидел Агзамский.
— Главный у всех коммунистов Казаков, да? — спросила Васима.
— Да.
— А главный у всех комсомольцев Агзамский?
— Да.
1 Традиционный зачин письма в народном обиходе; второе и четвертое слова рифмуются. — А когда вернется Тазкира-апа, она будет главной у всех пионеров, да?
— Да.
6 После разговора с Агзамским Салих избегал встреч с ним с глазу на глаз, неловко себя чувствовал. Агзамский же, напротив, держал себя так, как будто ничего и не произошло. Несколько дней спустя он протянул Салиху револьвер и удостоверение.
— Вот удостоверение на право ношения оружия. Если есть фотокарточка, зайди сам в ЧОН и оформись. Я выпросил у них для тебя еще два патрона, — добавил он, подмигнув. — Будет время, обязательно постреляем.
Больше Агзамский ничего не сказал. Салих тоже промолчал. Накануне вечером он написал письмо Хакиму, чтоб ему больше не высылали денег за лошадь, о причинах умолчал.
Сегодня Агзамский неожиданно зашел к нему домой и предложил прогуляться. Был оживленным и говорил без умолку.
— В переплетном цехе нашей типографии служила девушка Надя. Я с ней дружил и, когда уезжал, обещал писать. И правда, вначале посылал письма почти ежедневно. А сейчас редко когда напишу. Хотя вспоминаю ее часто.
Агзамский задумался. Салиху хотелось спросить, почему у него так случилось, но он не решился.
Агзамский чувствовал себя в обществе девушек более легко и свободно, чем Салих. Бывало в учреждении, в школе, в магазине, на заседаниях он охотно шутил с девушками, но без всякой цели, просто у него был общительный характер.
Они шли молча, как вдруг их окликнули:
— Салих! Агзамский!
Они обернулись и увидели Фарука. В брюках с подтяжками, в сандалиях на босу ногу, он стоял у ворот своего дома, опершись на лопату.
— Заходите, ребята.
— Зайдем, что ли? — предложил Агзамский, и оба вошли во двор.
Их встретила Нафисэ, окруженная утятами: она кормила их отрубями.
— Молодые люди гуляют вечером и высматривают девушек, — пошутила Нафисэ.
— Именно, — ответил Агзамский в том же шутливом тоне. — А кто всему причина? Вот кто! — И Агзамский показал на Салиха. — «Из сельхозтехникума, говорит, приехали на практику очень хорошие девушки. Пойдем, говорит, познакомимся». Я и решил проверить.
Салих натянуто улыбнулся, ему не очень понравилась эта шутка, особенно в присутствии Нафисэ.
— Ах, вот как! — промолвила Нафисэ, играя глазами.
Фарук прислонил свою лопату к стене и заложил руки в карманы брюк.
— И ты им веришь? — сказал он насмешливо, обращаясь к Нафисэ. — Да разве они в состоянии понять, что такое девушка? Что такое любовь? Им на все это наплевать. Они презирают любовь, цветы, духи, одеколон, танцы, музыку и вообще все красивое.
— О ком это вы говорите? — спросил Аг- замский.
— О ком же, как не о вас, комсомольцах? Не ты ли на днях говорил на собрании девушкам, что красить губы и вообще всякая косметика — мещанство?
Агзамский весело рассмеялся.
— И это, по-вашему, называется презирать красоту?
— Как же это назвать?
— Наоборот, мы приветствуем красоту. Но наши комсомолки и без косметики хороши. У них нет недостатков, которые нужно скрывать искусственными средствами. Их щеки горят алым цветом труда, — зачем же эту живую красоту скрывать под мертвыми белилами?
— Браво! Браво! — воскликнула Нафисэ, захлопав в ладоши. — Молодец! Ловко ты его срезал, тоньше бритвы.
И Нафисэ снова заиграла глазами, чего, впрочем, Агзамский даже не заметил.
— Хорошо, — сказал Фарук, — а почему вы против духов и одеколона?
— Наши девушки и без одеколона благоуханны.
— А танцы? Что за танец без кавалера?
— Приходите завтра на концерт, увидите, как они пляшут. Загляденье! И сами, без помощи кавалеров. И физкультурницы выступят, посмотрите на них. Наши девушки не похожи на прежних аристократок, которые даже с машины не могли сойти без чужой помощи. Мы приветствуем настоящую, неподдельную красоту. Понятно? Пойдем, Салих.
И Агзамский повернул к выходу.
— Куда вы? Куда? — засуетилась Нафи- сэ. — Я не отпущу вас без чая. Кстати, Салих, — обратилась она к нему, — о тебе пишет Хаерниса. Надо разыскать письмо. Не может она забыть, как ты ее обидел, но шлет тебе тысячу приветов.
— В самом деле, куда вы спешите? — вмешался Фарук. — Милости просим, садитесь. Отведайте бэлешей ’, Нафисэ готовила. Правда, блюдо старинное, не знаю, придется ли оно вам по вкусу, — сказал Фарук с вызывающей улыбкой.
— Вижу я, — ответил ему Агзамский, — все, что ни есть нового, не нравится вам. Сколько раз ни встречаюсь я с вами, каждый раз вы говорите в таком тоне. Может, тогда поговорим на людях, в открытую? Устроим дискуссию, как в Уфе. Там один мулла-реформатор вызвал на спор безбожников, да и осрамился. А вы давайте с нами, с комсомольцами, поспорьте...
— Да ведь он все шутит! — пыталась успокоить Агзамского Нафисэ. — Вы его не слушайте. Спорить — это его страсть.
— Только ли страсть? — спросил Агзамский.
Пить чай так и не остались. Нафисэ сунула каждому из них по кульку вишен. Отказаться было неудобно. Молодые люди долго шли молча, выплевывая косточки. Когда вишни были съедены, Салих выбросил свой кулек, Агзамский же обратил внимание на исписанный листочек, из которого был свернут кулек, 1 Бэлеш -пирог, начиненный мясом. расправил его и стал читать, сначала про себя, а потом вслух:
- «Основная масса народа, — читал он, — ведет кочевой образ жизни: летом кочует по степям, зимой...» Дальше слова были забрызганы вишневым соком и в наступившей темноте их трудно было разобрать. Агзамский задумался.
— Посмотри-ка, — протянул он листок Салиху, — это не брат твой писал?
— Нет, это женская рука. Вероятно, тетя Нафисэ.
Агзамский улыбнулся.
— Разве женщины пишут по-другому?
— По моим наблюдениям — да...
Агзамский сложил вчетверо бумажку и спрятал в карман.
— Зачем она тебе? — удивился Салих.
— На всякий случай. Вдруг понадобится положить вишни, а бумаги не окажется. Понятно?
Ответ Агзамского показался Салиху странным, но он промолчал.
— Кто такая Хаерниса, которая шлет тебе приветы?
Салих насупился: «Снова допрашивать начинает», — подумал он и ответил кратко:
— Сестра Нафисэ, дочь муллы. Пришла как-то ко мне просить рекомендацию в комсомол, я отказал.
Прощаясь, Агзамский крепко пожал руку Салиха, так же крепко, как в первый раз, когда Салих приехал из Аккуяна.
— На днях, — сказал он, — зайдем к Казакову, он хочет побеседовать с тобой.
Дома Салих застал шумную ватагу ребятишек, увлеченных какой-то игрой.
— А ну-ка, — обратился он к ним, — докладывайте: чем вы тут занимаетесь? Что тут за игра такая?
— Театр, — веско и поучительно ответила одна из девочек, остальные звонко рассмеялись.
Не желая мешать детям, Салих вышел из дому и сел в самом углу двора на сваленные в кучу бревна.
Рассказ Галляма о Наде напомнил ему Корбанбикә. Как она там? Кто знает, может быть, рисунки Салиха все еще висят на стенах общежития и ребята, глядя на них, вспоминают его, может, и Корбанбикә тоже вспоминает. Интересно бы взглянуть на них теперь.
Салих не заметил, как к нему подошла Михербану и тихо опустилась рядом, шепча какую-то молитву.
Помолчав, она спросила:
— И ты, говоришь, видел мою Зюхру?
В сотый, если не в двухсотый раз она задавала этот вопрос. Салих понимал ее материнское сердце и ответил терпеливо:
— Видел, мать, видел.
— Сильно она похудела, бедняжка? — залилась слезами старуха.
И этот вопрос она задавала неоднократно. Салих ответил ей, как в первый раз:
— Не знаю, какой она была раньше, но не скажу, что теперь она очень худа.
— Бедняжка ты моя, бедняжка! — стала причитать старуха.
— Не надо было выдавать за кулака, — холодно сказал Салих.
— Это все старик. Все он. Кабы моя воля, разве я отдала бы свое дитя на поруганье! Все он, польстился, дурак, на богатство. Другие дочки замужем за людьми вроде нас. Всякое у них бывает, когда придется, и голодают, зато душа спокойна.
Старуха ушла. Салиху хотелось побыть в одиночестве, и он решил лечь спать сегодня на крыше сарая.
Глядя на звезды, он вспомнил, как вместе с Хасаном он некогда так же лежал на крыше. Тогда была весна, а сейчас дело клонится к осени. Тогда дул влажный ветерок, а сейчас воздух сухой, полный запахов созревших плодов. И звезды не такие круглые, как весной, а кажутся пятиконечными, даже девятиконечными. Мерцание миллионов звезд поглотило его внимание. Очнувшись, он почему-то вспомнил брата Фарука. «Глуп Фарук, — подумал он. — Сказать такое: «Комсомольцы презирают красоту»! Хорошо его отчитал Агзамский, молодец! И насчет паровоза и вагонов он совершенно прав. Только почему выступал на бюро против пейзажей? Ведь и природу можно по-разному изображать».
Долго не мог уснуть Салих, ломая голову над этими вопросами. «Спрошу его напрямик при удобном случае, — решил он. — А прежде всего надо учиться. Много ли узнаешь, окончив один курс техникума? Недаром Ленин сказал комсомольцам: «Учиться, учиться, учиться!» 7 Красочно исполненные плакаты извещали о предстоящем коллективном прослушивании радио. Теперь все жители Ахмера знали, кто пишет эти плакаты, и, увидев их, всегда говорили:
— Сегодня будет что-нибудь интересное, Салих вывесил новый плакат.
Репродуктор, смотревший со сцены в зрительный зал, походил издали на большую черную голову с разинутым ртом. Собравшийся народ глядел на него, дожидаясь в тишине, когда он заговорит. На прослушивание радио никогда не опаздывали, наоборот, старались прийти пораньше и занять место поближе к репродуктору.
Рябоватый парень, ведавший радио, торжественно ходил вокруг репродуктора и поглядывал на часы. Еще задолго до назначенного часа он проверил свою аппаратуру, а то случилось ему как-то регулировать радио прямо на глазах у людей — он пропустил передачу, и столько ему пришлось выслушать насмешек, что с тех пор не хотелось снова срамиться. Торжественное настроение чувствовалось и в зале. Салих заметил, что Агзамский, с которым он виделся утром, успел надеть новую рубашку с вышитым воротником и побывать у парикмахера.
Парень у радио бросил взгляд на часы и призвал к тишине.
— Сейчас начнем, — сказал он.
Раздались аплодисменты.
Сначала послышалось шипение, потом треск, напоминавший раскаты далекого грома, затем свист, похожий на звуки полозьев в зимнюю стужу. А Уфы все не было.
— Да говори же! — крикнул кто-то нетерпеливо.
— Ты думаешь, твой крик услышат в Уфе? — ответил ему другой.
— Тише! Звуки приближаются!
— Они уже подошли к нашей деревне, — добавил шутливо Агзамский.
«Слушайте, слушайте, — раздался голос из репродуктора. — Говорит Уфа. Говорит Уфа».
Те же слова повторил женский голос и добавил:
«Передаем доклад «Задачи комитета взаимопомощи».
После доклада снова раздался голос диктора:
«Говорит Уфа, говорит Уфа. Обращаемся к гражданам деревни Аккуян».
Салих подался вперед и даже покраснел от волнения.
Кто-то дернул его за рукав.
— Слышишь? Твою деревню назвали.
Салих сердито отмахнулся:
— Не мешай, слышу!
Диктор продолжал:
«Граждане деревни Аккуян! Поздравляем вас с приобретением четырехлампового радиоприемника. Это серьезный шаг в культурном развитии вашего села. Но мы слыхали, что у вас есть люди, которые не верят в радио. Они сомневаются, что можно говорить и слушать друг друга на таком большом расстоянии. Так думают, например, Сулейман-бабай и Ташбу- лат-агай. Вам известно, конечно, что сюда, в Уфу, приехал из вашей деревни учитель Гильман Шарипов. Все вы его хорошо знаете. Можете сейчас услышать его голос. Он закончил свои дела в Наркомпросе и Наркомземе и сейчас находится у нас в студии. Сулейман-бабай и Ташбулат-агай, слушайте! Предоставляем слово Гильману Шарипову».
После небольшой паузы раздался знакомый голос:
«Здравствуйте, дорогие земляки! Здравствуйте, Сулейман-бабай и Ташбулат-агай...» Человек, сидевший рядом с Салихом, снова дернул его за рукав.
— В самом деле есть в вашей деревне такие люди?
— Дядя! — взмолился Салих. — Не мешай!
«... Здравствуйте все, кто меня знает, — продолжал тот же голос. — Говорит с вамп учитель Гильман Закирович Шарипов. Меня слушает сейчас не только наша деревня Ак- куян, но многие деревни и города республики. Поэтому я хочу рассказать радиослушателям о нашем родном Аккуяне. Наша деревня, товарищи, насчитывает триста дворов и считается передовой в волости. Кооператив наш существует уже три года и с каждым месяцем улучшает свою работу — сейчас он насчитывает двести двадцать девять пайщиков. В прошлом году мы приобрели общественный сепаратор, а недавно купили племенного быка. Двадцать пять дворов объединились в сельскохозяйственную артель, засеяли сорок десятин пшеницы, двадцать пять десятин проса и осенью получили хороший урожай. Таков, товарищи, результат коллективного хозяйствования. Кроме того, комсомольцы нашей деревни засеяли комсомольскую десятину и выручили сто пятьдесят рублей чистой прибыли. На эти деньги они купили радиоприемник, которым пользуются все граждане села, и слушают Москву и Уфу. Вечерами работают кружки по ликвидации неграмотности, их посещают двадцать мужчин и двадцать четыре женщины. Таковы наши достижения. Товарищи Сулейман и Ташбулат могут подтвердить эти сведения и заодно поверить в радио, убедившись, что чудеса делает не бог, а люди».
Салих слушал, не переводя дыхания, а когда учитель кончил, облегченно вздохнул, словно все время боялся, чтобы Гильман чем- нибудь не уронил чести родного Аккуяна перед лицом такой огромной аудитории.
Во время перерыва Салиха окружили знакомые.
— Здорово шагает ваша деревня!
— Неужели эти Сулейман и Ташбулат такие отсталые старики?
— Что тут удивительного! Совсем недавно были еще такие, которые и в телеграфе сомневались. А тут без проводов — и голос слышен...
— Только в позапрошлом году старик Ах- меди колотил кулаками телеграфный столб и приговаривал: «Гудишь, гудишь, а хорошей вести не принесешь».
— Гордишься ты своей деревней, да? Приятно слушать такие новости.
Для Салиха это было маленькое торжество. Он вспомнил Хасана, и ему захотелось всем рассказать о нем.
— У нас в Аккуяне, — сказал он, — хороший руководитель у комсомольцев. Хасаном зовут. Радио — это его рук дело, конечно. Он и корреспондент, в газету пишет.
Салих понимал, что имя Хасана ничего не скажет слушателям, и в то же время не мог не похвалить друга.
По радио стали передавать концерт, но Салих не слушал музыки и песен; в ушах его все еще звучали слова учителя Гильмана, чувство гордости за родное село охватило его. Он подумал, что, возможно, в это же время слушает передачу и Корбанбикә и вспоминает своего Друга.
Очнулся он при словах диктора:
«Сейчас будет передаваться «Буранбай» — любимая песня гражданина села Аккуян Ян- турина».
В воображении Салиха встали усмехающийся в бороду старик Халькес и старуха Сахип с лошадиным хвостом в руке. Ведь гражданин Янтурин это и был старый Халькес.
Когда Салих вышел на улицу, его взял под руку Галлям.
— ■ Я видел, как ты радовался, слушая вести из родной деревни. Приятно было за тебя.
— Да ведь родная сторона! Я там каждый кустик на земле, каждую бороду на лице знаю.
— Понимаю, понимаю! Если бы о моей типографии говорили, я бы так же переживал. А сейчас пойдем к Казакову.
— Зачем? — остановился Салих.
Он помнил, что Казаков собирался поговорить с ним, и немного побаивался предстоящей встречи.
Секретарь Казакова Анна Константиновна встретила их как старых знакомых и попросила подождать — Казаков должен был прийти с минуты на минуту.
Вскоре он действительно явился, с папкой под мышкой, очень оживленный. Усадил обоих юношей на длинный мягкий диван, а сам сел между ними.
— Ягфаров, ты садись с правой стороны, с которой я лучше слышу. А у Агзамского такой зычный голос, что его я и слева услышу. Закурим?
Казаков вытащил из кармана портсигар.
— Я не курю, спасибо. Агзамского угостите.
— А тебя чем угостить? Слышал я, что Агзамский получил из города посылку. А?
— Ничего такого, чтоб угостить. Мать рубашку прислала.
— А ты, вижу, сразу и надел. Красивая рубашка. Верно, Салих?
Салих тоже одобрил рубаху.
Некоторое время разговор продолжался в том же духе, и Салих все ждал, когда заговорят о главном.
Наконец, Казаков спросил как ни в чем не бывало:
— Вести о лошади получаешь? Не слишком ли ее там загружают? А то, как говорят башкиры, «хозяина нет, значит слова нет».
— Не совсем так, — поправил Агзамский. — «Хозяина нет, значит глаза нет».
— Будь она неладна, эта лошадь, — сказал Салих, — из-за нее, проклятой, я ночей не сплю. Написал, чтоб мне денег больше не посылали. Ну ее! Еще потянет она меня куда не следует — в сторону кулака.
— Лошадь тянет туда, куда ее поворачивают, — заметил Казаков. — А насчет кулака это ты, братец, загнул! Ты же комсомолец, побывал в советской школе, сын одного из первых наших коммунистов. А теперь даже середняк, в котором еще сидит собственническая закваска, и тот уходит из-под влияния кулака в нашу сторону. Что же о тебе говорить! А все же, чтобы не было лишних разговоров, ты продай эту лошадь.
— Продать? — Салих удивленно взглянул на Казакова.
— Что ты так смотришь? Продай тому же сельпо. Канткому тоже нужна лошадь. Если подходящая, сами купим. И на эти деньги приоденься, купи себе вышитую рубашку, как у Агзамского. Видишь, какой он в ней красавец!
— И этим все кончится?
— Что именно?
— Беда, обрушившаяся на мою голову.
Казаков и Агзамский не могли удержаться от смеха. Казаков похлопал Салиха по плечу.
— Молодец, Ягфаров! Нравишься ты мне. Такие, как ты, ребята смело рвут со старой жизнью. Людям пожилым, ноги которых опутаны старыми корнями, потруднее приходится. Кстати, револьвер оформил? — спросил он неожиданно.
— Оформили, на другой же день, — ответил Агзамский.
— А ты знаешь, чей это револьвер, Салих? Твоего отца. Он забрал его в бою у колчаковского офицера. А когда на него напала банда, этот револьвер у него вытащили и из него же тебя хотели убить. Вот как бывает! Сейчас он у тебя, перешел от отца к сыну. Это хорошо! А вот что плохо: ты две недели не регистрировал его и до сих пор таскал бы в кармане, если бы не Агзамский. Следственные органы второй год разыскивают револьвер под таким номером. А ты, по беспечности своей, помогал врагам заметать следы...
Салиху показалось, что диван, на котором он сидел, стал уходить из-под него, он невольно ухватился за спинку.
Казаков, заметив, как побледнел Салих, перевел разговор на другую тему, а когда Салих немного успокоился, спросил:
— Получаешь письма от Миньямал? Как она там работает?
Салих встал с места, ему стало душно.
— Садись, — сказал Казаков и, потянув его за руку, снова усадил рядом с собой. — Это же не суд. Я хочу поговорить с тобой по душам, успокойся. Девушка она хорошая, и ты поступил правильно, вытащив ее из болота. Тут Агзамский немного погорячился, я сказал ему.
Агзамский кивнул головой.
— Если человек разрывает со своей средой и искренне тянется к нам, мы должны поддерживать его, а не стоять в стороне. Плохо же вот что: вы приняли Миньямал в комсомол в ее отсутствие. Это грубое нарушение устава. Небольшой грех нарушить устав союза охотников. Но устав комсомола должен быть для вас священным. Подобных ошибок больше не повторяй.
Салих был очень взволнован, он ответил второпях:
— Надо было прежде согласовать с кант- комом, я теперь всегда буду согласовывать...
— Ай, нет, нет! — прервал его Казаков. — Неверно ты меня понял. Этак ты легко превратишься в чиновника, равнодушного к делу. Надо быть смелым. Если ты в чем-нибудь убежден, продумай хорошенько и действуй. В случае с Миньямал вы поступили смело, а не продумали. Устав знали, а обошли. Устав же — это дисциплина. Вот еще случай. Ты был летом в Судбазаре, и оттуда, по твоему предложению, послали на конференцию женщину по имени Бадар.
— Верно, — подтвердил Салих, с напряжением ожидая, что скажет дальше секретарь.
— Ты не ошибся. Увидел в ней настоящее зерно, угадал, что это сила. Не придал значения ее сварливости, крикливости, предрассудкам, понял, что не это в ней главное. Мне рассказывали в женотделе, что работает она с огоньком, словно, говорят, дорвалась, наконец, до настоящего дела.
Салих улыбался, весь в поту.
Агзамский встал с дивана и нервно прошелся по комнате.
— Я собирался вам сказать...
— Да?
— Материалы с обвинениями Ягфарова пришли без подписи. Но я узнал, кто их писал: это жена брата Салиха Нафисэ, дочь муллы.
— Как же ты узнал?
Агзамский рассказал про кулек с вишнями, который он сохранил и, сравнив оба почерка, обнаружил полное совпадение.
— Вот вам, ребята, образчик работы классового врага, — сказал Казаков. — И писала она не для того, чтоб исправить Салиха, а чтоб погубить его.
— Змея! — произнес Салих. — Всегда со мной такая ласковая, любезная...
— Усыпляла твою осторожность, чтоб больнее ужалить.
— Сегодня я тоже поступил неосторожно, — вспомнил Салих. — Во время радиопередачи похвастал своим другом селькором и назвал его имя.
— Вот видишь! Возможно, никто и не обратил на это внимания, — сказал Казаков, — а все же, конечно, неосторожно поступил. Любишь своего друга, а ставишь его под удар.
Салих возвращался домой кружным путем, ему хотелось на досуге разобраться в сегодняшней беседе и продумать слова Казакова.
8 Стоял душный и жаркий день. В воздухе чувствовалась гроза. Колхозники артели «Красный маяк» торопились заскирдовать хлеб, пока не полил дождь. На помощь артели вышли служащие кантонских учреждений.
Старик Аубакир забежал домой, но не стал дожидаться самовара, а, напившись холодного айрана, поспешил со старухой обратно в поле.
В доме остались одни дети. Как и предвидели люди, тихий день вдруг переменился. Со свистом вырвался откуда-то ветер, поднялся ураган такой силы, что, казалось, он разворотит землю до самых недр. Между небом и землей встало гигантское облако красновато-бурой пыли. По всей деревне захлопали ставни, жалобно зазвенели стекла. Куры, гуси в страхе попрятались, козы и телята дрожали, прижавшись к стенам домов, собак вовсе не было видно.
И сразу хлынул дождь. Длинные, тугие струи падали не прямо, а косо, и казалось — тысячи серебряных сабель неистово свистят слева направо, рассекая воздух. Сверкали молнии, от ударов грома, казалось, вдрагива- ла гора Сугатэ; потоки воды, вздуваясь и ревя, побежали вниз по деревенским улицам. Старухи шептали молитвы, прося бога смилостивиться над оставшимися в поле.
Васима и дети хозяина испуганно глядели в окно и при каждом ударе грома ложились на пол.
Салих и Агзамский тоже участвовали в помощи артели. Они возвращались с поля вымокшие, босиком, держа ботинки в руках, но довольные, потому что успели заскирдовать хлеб.
Дождь усилился, начался настоящий потоп, и друзья вынуждены были прислониться к какому-то стогу.
— Люблю я такую погоду! — воскликнул Агзамский.
Салих недоуменно взглянул на него.
— Летом люблю грозу с громом, молнией, зимой — буран, но такой, чтоб глаз нельзя было открыть, весной — бушующую реку, выходящую из берегов и смывающую все, что мешает ей на пути. Эх, надо бы мне переменить свое имя! Я назвал бы себя Дауыл ’. Ведь неплохо звучит: Дауыл Агзамский! А?
— Здорово звучит! И вообще хорошо было 1 Дауыл — буря, бы, если б человек выбирал себе имя по характеру!
— Ты какое бы выбрал?
— Я? — подумал Салих. — Я назвал бы себя Ильгизер Тукский. Тукский — потому, что родился на берегу реки Тук. Иль — страна, гизер — путешествовать. Я хочу объехать всю нашу страну, побывать во всех городах, деревнях, увидеть всех людей.
— Ильгизер Тукский! Замечательно! Так и решили: отныне не существует больше на земном шаре Салиха Ягфарова, а есть Ильгизер Тукский. Вот так история! Ведь и я изменил фамилию: был Агзамов, а сейчас Агзамский. Тебе нравится?
— Нравится. Совсем как у артиста. Но разве можно менять фамилию?
— Можно. Ты загляни в газету, в отдел объявлений, увидишь... Давай пойдем. К лицу ли нам, комсомольцам, где-то прятаться, когда кругом бушует гроза! Мы не из таких, чтоб отсиживаться от бури.
Агзамский сказал это в обычном для него шутливом тоне, однако таким он был в действительности. Дождь хлестал им в лицо и спину, а Агзамский распевал во все горло комсомольскую песню, и Салих, наконец, не выдержал и стал подпевать ему.
Так и шли они, промокшие до нитки и счастливые.
У библиотеки друзья распрощались. Салих решил зайти в читальню, Агзамский направился домой. Выжав в сенях мокрый пиджак и снова накинув его на плечи, Салих вошел в читальный зал. Там никого не было, кроме заведующей. Она стояла у окна. Туча уже прошла, и из окна были видны далекие молнии, раскаты грома становились глуше и напоминали шум проезжающей по дощатому мосту арбы.
Салих стал перелистывать подшивку газеты за месяц — он искал заметки Хасана. Каждый раз, когда он читал их, ему казалось, что он слышит голос друга, чувствует его дыхание.
Прочел новое стихотворение поэта Н. Акманлы и подумал, что оно должно понравиться Агзамскому, в его духе написано. Ритм у стихотворения был стремительный, похожий на мчащийся через пороги поток. В стихах было больше восклицаний, чем точек и запятых, — как в иных речах Галляма. Салих стал просматривать объявления. Нашел сообщение о выходе новых книг, об утере круглой печати кантонного земельного управления, о том, что зубной врач приглашает к себе больных, но объявлений о перемене фамилий не находил. Он уже собирался закрыть подшивку, как вдруг ему бросилась в глаза заметка под названием: «Я порываю с отцом». Салих прочел: «Я, Хаерниса Кутдусова, дочь Тухфата Кутду- сова из деревни Аккуян, извещаю, что порываю всякую связь со своим отцом».
«Понятно, — покачал головой Салих: — Хаерниса снова собирается куда-нибудь пролезть! Нет, товарищ Агзамский, спасибо за совет, не буду я объявлять о перемене своей фамилии рядом с сообщением о разрыве дочки с отцом-муллой. А о Хаернисе надо будет написать в эту же газету. Пусть все знают, кто она такая».
Тишину читального зала нарушил громкий стук, и в комнату ворвалась Васима.
— Агай! Тазкира-апа приехала!
Заведующая библиотекой Назира-ханум в ужасе от того, что нарушили священную тишину читальни, бросилась из своей комнаты в зал, но нарушителей и след простыл — взявшись за руки, они бежали домой.
Васима на ходу торопливо рассказывала Салиху о приезде Тазкиры и Хакима.
— Хаким тоже приехал? — обрадовался Салих.
— А Тазкиру-апу, — продолжала Васима, — узнать нельзя. Настоящая учительница. Ой! Не выдавай меня! Я совсем забыла — она же просила не говорить тебе ничего! Она хотела удивить тебя!
Во дворе стояла телега Хакима, доверху заляпанная грязью, — видно, попала под самый дождь; с мокрой одежды, повешенной около клети, стекали струйки воды. Не успел Салих подняться на ступеньки крыльца, как кто-то сзади крепко обнял его за плечи. Это был Хаким. Он вышел из-за сарая, где привязывал лошадь.
— О-о! Какой он стал молодец! — воскликнул Хаким, отступив шаг назад и любуясь Салихом.
В ту же минуту на шее Салиха повисла Тазкира, — она спряталась было в доме за печь, но, увидев Салиха, забыла о своих планах и выскочила ему навстречу.
Теперь пришла очередь Салиху удивляться. Кто бы сказал, глядя на Тазкиру, что это та самая девушка, которая совсем еще недавно уезжала в город! Она не только выросла и похорошела, но что-то новое появилось в ее лице, смелое и живое. Ей очень шла широкая юбка и белая кофта с кумачовым галстуком; своими коротко подстриженными волосами она взмахивала, как мальчишка, чувствуя себя свободно и независимо.
— Хаким-агай, вы говорите, я изменился! Вот кто изменился! Поглядите-ка на эту красавицу! Если бы я встретил ее на улице, ей- богу, принял бы за какую-нибудь важную горожанку.
— А ты как изменился, агай! Но я все же узнала бы тебя при встрече. А Васиму, честное слово, нет. Уехала — была ребенок, приехала — девушка.
Васима, видимо, желая подтвердить, что она уже не ребенок, бросилась ставить самовар.
Салих продолжал смотреть на Тазкиру. Нет, удивительно, до чего она изменилась! Стала свободнее в обращении, говорила без умолку, часто вставляя в свою речь русские слова. Правда, не всегда кстати; так, она сказала: «случайно» и «абсолютно» совсем не к месту, — не то хотела похвалиться своей начитанностью, не то еще не усвоила толком значения этих слов. Салих не перебивал ее, он в свое время тоже пережил нечто подобное, путал слова «субъективное» и «объективное», пока не научился их различать. А однажды на заседании, желая сказать, что получился винегрет в работе, сказал виноград. Товарищи добродушно посмеялись, но Салих был сконфужен и с тех пор пользовался новыми словами осмотрительно. Он решил при случае поговорить об этом с Тазкирой.
После чая Тазкира и Васима вышли погулять, а Хаким с Салихом остались вдвоем, очень довольные, что могут теперь без помех поговорить по душам.
— Дела у нас в Аккуяне заворачиваются круто, — начал Хаким. — Чем настойчивее мы строим новую жизнь, тем активнее ополчаются против нас кулаки. Коммунистов нас пока четверо, собираемся на днях принять в партию Хасана. Дела артели пошли настолько хорошо, что кулаки встревожились и решили было в пику нам создать свою артель — из зажиточных крестьян. Кое-кто из земельного отдела их поддерживал, даже твой брат Фарук за них заступался. Ты помнишь луг Сы- баркош и тамошние травы, сочные, густые?
— Как же! Он когда-то принадлежал мулле.
— Так вот, его хотели отдать кулацкой артели, — продолжал Хаким. — Но мы очень скоро раскусили их замыслы. Однако кулаки, видно, еще не хотят складывать оружие. Одно могу сказать — назревает буря.
— Как сегодня перед дождем?
— Думаю, что посерьезнее.
— Как живет Ташбулат? — Салих вспомнил давнюю беседу в дороге.
— Он, понимаешь, одержим одной мыслью — перетащить свою избу на другое место. На последние гроши угостил своего предполагаемого соседа по переулку, надеется на него. Ты помнишь жену его Сабиру? Она за то, чтоб вступить в колхоз. А он ей: «Погоди, говорит, перейдем на новое место, все пойдет по-другому». Бикбулат устроил его сторожем на мельницу, — по крайней мере, дети будут сыты.
Салих слушал Хакима и разглядывал его. Хаким сильно изменился: под глазами появились мешки; лицо в морщинах, их, пожалуй, больше, чем полагалось бы по его годам; глаза колючие, лоб хмурый; весь он сурово подтянут.
«Не с предстоящей ли бурей связана эта перемена?» — подумал Салих.
Как бы мимоходом, Салих спросил про Миньямал. Хаким очень оживился при этом вопросе.
— Видно, здорово вы ее здесь подтянули, прежде чем отпустить. Ведь она, парень, прямо и приехала к Хасану. Хасан в это время на собрании был, сказали ему — он ушам своим не поверил. Побежал домой. В самом деле — Миньямал! Мать Хасана носится по комнате с самоваром, сама не своя. А наш-то Хасан, джигит, орел-то, говорят, так смутился и оробел, что даже не поздоровался с Миньямал. А она ему, и глазом не моргнув: «Что ж это ты? — говорит. — Як тебе с радостью, а ты съежился, как мокрая курица?» В тот же день, впервые в нашей деревне, сыграли красную свадьбу. Учитель Гильман доклад сделал и начал он словами, которые всем понравились: «Ласточки новой жизни». В сельпо как раз были красные шелковые одеяла, решили молодоженам подарить такое одеяло. Нельзя сказать, чтоб удачно выбрали подарок. Получилось довольно глупо. Когда во время торжественного заседания им преподнесли этот подарок, многие громко захохотали. Хасан до сих пор забыть не может. «Нашли, говорит, что дарить!» Только Айытбай чуть было не испортил весь праздник. Пришел, стал поносить присутствующих — еле угомонили.
— Расскажи, кстати, про Айытбая.
— После того случая в Судбазаре он дней пятнадцать отсидел. Но, кажется, концов не нашли и выпустили его.
В комнату вошла Васима, за ней Тазкира. Она оглядела маленькую комнату, низкие потолки и сказала:
— Что это с домом стало? В землю врос?
— Это ты выросла, — улыбнулся Салих.
— В городе разве такие дома? — продолжала Тазкира. — Потолки там высокие, двери просторные...
— Смотри, — заметил Хаким, — не окажись в положении человека, который, вернувшись в деревню после трехмесячного отсутствия и увидев грабли, презрительно спросил: «Это что такое?» А когда наступил на зубья граблей и хватило его черенком по лбу, так он закричал истошным голосом: «Кто тут грабли бросил?» Тазкира поняла смысл этой притчи и, чтобы скрыть смущение, спросила Салиха:
— Агай, а где я буду работать? Ты еще не договаривался?
— Отдохни немного, там видно будет, — ответил Салих. — Агзамский обещал устроить в школе. Работы хоть отбавляй, об этом не беспокойся.
Тазкира искоса взглянула на брата. Какой он стал мужественный и серьезный! И говорит с ней, как со взрослой, уважительно... «Если бы видели покойные мать и отец!» — подумала она и вздохнула.
Салих, казалось, понял ее мысли.
— Вот и опять мы вместе. А там — кто знает, снова разъедемся — учиться или работать...
9 В Аккуян снова пожаловала осень. Желтовато-серым цветом выкрасились поля. Там теперь пустынно. На большой дороге еще можно встретить проезжих, а на проселочных, кроме дороги на мельницу, их не видно. На этой дороге сейчас движения больше чем летом; трава по ее краям почернела от дегтя. Все меньше и меньше видно птиц и зверей. Замолкли крики диких гусей и журавлей, улетевших к далекому югу. Суслики, которые в летние дни, стоя у дороги, прямые, как палки, беспечно свистели, сейчас редко вылезают на поверхность, а если какой-нибудь высунет лениво голову из норы, то, завидя человека или собаку, тут же снова исчезает.
Когда сгустятся сумерки, на мельнице поднимают щит, и всю ночь с однообразным шумом по желобу течет вода. Один Ташбулат в чекмене, наброшенном на плечи, бродит вокруг мельницы и мурлычет под нос старую песню:
Деньги дай, и ты получишь Пестроногих коней лучших.
Обрывает ее на словах: «Жизнь к нам дважды не приходит», никогда не допевая до конца. Песня эта имеет три конца, и поющий обычно выбирает тот конец, какой ему больше по душе. Одни поют: «Так будем же молиться», другие: «Будем веселиться», а третьи: «Давайте дело делать».
Видимо, ни один из этих вариантов не удовлетворял Ташбулата. Молиться он не молился. В мечеть ходил только от праздника к празднику и то стоял в самом заднем ряду, где скучающая молодежь потихоньку развлекалась, чем могла. Веселиться — это ему и в голову не приходило. А насчет того, чтобы в жизни дело сделать, то хоть Ташбулат об этом подумывал, да не верилось ему, что дело может выйти. И сегодня, как всегда, он начинал эту песню и, не закончив ее, начинал сначала...
Обойдя в который раз мельницу, он сел на большой камень у реки. Старая собака Арлан растянулась у его ног. Арлан принадлежал прежнему арендатору мельницы Прохарчуку; сначала он ушел было за своим хозяином, затем вернулся обратно, словно подтверждая старую поговорку: «Собака, попробовавшая муки, всю жизнь будет лизать мельницу». Арлан ходил по пятам за Ташбулатом, и Ташбулат привык к нему. Когда Ташбулат отлучался домой, Арлан оставался сторожить мельницу.
Сегодня, проводив последнюю телегу, Ташбулат заглянул в плетеную вершу, которую он поставил утром, — там плескалось несколько рыбешек. «Придет Хакбулат, — подумал он, — поджарит себе и полакомится». Когда сгустились сумерки, пришла Сабира с Хакбу- латом, в руке у нее был узелок. Ташбулат удивился: случалось, что, если он не успевал зайти домой пообедать, Сабира приносила ему обед на мельницу, но сегодня он поел дома да еще захватил с собой холодной картошки и хлеба.
— Что это у тебя в руке? — спросил он.
— Еда.
— Зачем? Ведь я поел.
Сабира замялась, потом сказала:
— Только ты ушел, как пришла сноха Ша- рапа. «Мать наша, говорит, завещала, чтоб в годовщину ее смерти раздавали бедным людям гостинцы. Сегодня, говорит, как раз годовщина, вот я вам и принесла небольшой бәлеш и кусок мяса». Я не стала много раздумывать, поблагодарила ее и взяла.
Видя, что Ташбулат молчит, Сабира с беспокойством спросила:
— Может, не надо было принимать?
Ташбулат пожал плечами.
— Они меня за муэдзина приняли, что ли? Или я нищий у мечети? — И, желая смягчить свои слова, добавил: — Ну, раз они от чистого сердца, ладно, пускай...
Сабира всю дорогу думала над тем, чем вызвано это неожиданное подношение, и нашла объяснение:
— Помнишь, ты вырыл им погреб. Вероятно, за это!
Ташбулат замахал на нее руками.
— Что ты! Забыла, что ли? Полпуда муки мне тогда отсыпали. Мы еще дивились их щедрости.
— Помню, — робко произнесла Сабира. — Но они же просили тебя молчать о погребе. Видно, за молчание и гостинец.
Ташбулат немного обиделся:
— Я вовсе не такой, чтоб разбалтывать чужую тайну! Сабира ушла. Ташбулат задумался над ее словами.
На той неделе Шарап позвал его к себе, приветливо встретил и попросил вырыть глубокий и широкий погреб в конюшне. Два дня рыл Ташбулат погреб, а вырытой землей, по указанию Шарапа, засыпал яму за сараем. И Ташбулат и отец его Тимербулат всю жизнь работали на Шарапа, а мало что видели от него хорошего. Шарап всегда отлынивал от расчета: то некогда ему платить, то нечем. Сколько приходилось ходить да кланяться, пока удавалось что-нибудь получить! А на этот раз без всяких просьб и напоминаний Шарап отвесил Ташбулату полпуда с лишком муки. И кормил во время работы не то что вчерашней прокислой похлебкой, как прежде, а поставил лучшее, что было в доме. И сам все помогал и поторапливал, говоря, что надо закончить все дела до приезда сына.
На прощание, когда довольный Ташбулат стоял с мешком в руке, Шарап сказал заискивающе:
— Ты уж прости, дорогой, если когда обидел. Человек ты, я вижу, хороший, а это, знаешь, между людьми главное. Приходи, если что понадобится, рад буду помочь. А о погребе не рассказывай. Народ сейчас любит совать свой нос куда не следует: что, да к чему, да зачем? А дело простое — хочу яму снегом набить, чтоб летом было где масло да молоко хранить. Ну, с богом!
По простоте души своей Ташбулат поверил, что у Шарапа совесть, наконец, заговорила, совсем, можно сказать, размяк. Вечером, лежа в постели, он рассказывал жене о разговоре с Шарапом и только усмехался: «Какой мне интерес рассказывать? Меня что, за это маслом попотчуют?»... Ташбулат взглянул в сторону, куда ушла Сабира. В темноте мелькал ее белый платок. Ташбулат смотрел до тех пор, пока он не исчез. Тогда он обратился к Арлану, выжидательно смотревшему на хозяина:
— Ай-ай! Да ведь мы забыли отдать рыбу ребятишкам.
Арлан вскочил, навострив уши.
— Лежи, лежи, дурачок, — усмехнулся Ташбулат. — Я не про людей, про рыбу говорю. Не тревожься.
10 Т-нибулат накинул на плечи свой чекмень и юлько стал затягивать кушак, как вошел Хасан. Под мышкой у него был объемистый черный узел, а в руках пара новых сапог.
— Собираетесь куда, Ташбулат-агай? — спросил он.
— Куда мне собираться, как не на мельницу. Да я не тороплюсь. Проходи, милости просим.
И, желая показать гостю, что он не спешит, Ташбулат немного ослабил свой кушак.
Хасан положил па нары принесенные им вещи, от них пахло нафталином и дегтем, а сам сел в сторону.
— Что это у тебя? — спросил Ташбулат.
— Это вам. Бикбулат-агай привез из волости одежду для детей бедняков. Ваш Хак- булат идет в этом году в школу, вот я ему и принес пальто и сапоги. Хасан подозвал к себе оторопевшего Хак- булата и принялся деловито примерять пальто, затем усадил на нары и стал натягивать ему на ноги сапоги. Ташбулат и Сабира застыли на месте, наблюдая за этой сценой.
— Пальто немного свободно, но сапожки точно по его ноге сшиты! — с довольным видом объявил Хасан.
Сабира обошла вокруг мальчика, в первый раз в жизни одетого во все новое, — он показался ей вдруг выросшим и даже непохожим на ее сына.
Ташбулат продолжал стоять на месте. Наконец, немного заикаясь, он спросил:
— Сидит хорошо, что и говорить. Только вот стоить-то, стоить-то сколько будет?
— Уже уплачено, — коротко ответил Хасан, глядя на Хакбулата, который, широко улыбаясь, ощупывал свои карманы, воротник, рукава.
— Понимаю, что уплачено, — продолжал Ташбулат, — но сколько с нас-то следует?
— С вас ничего не следует, Ташбулат- агай, а вот с него, — Хасан указал на Хакбулата, — с него как раз и следует.
— С меня?! — вытаращил глаза мальчик.
— Следует хорошо учиться, чтоб отблагодарить за подарок советскую власть.
Сабира утерла рукавом глаза, а Ташбулат, подойдя к Хасану, долго глядел на него, подыскивая слова.
— Спасибо, браток, и тебе и Бикбулату! Спасибо вам за вашу заботу о бедных людях!
— Ты не нас благодари, а советскую власть. Раздаем понемногу тем, кто нуждается. Товару, правда, мало. Если бы не кулаки, было бы больше.
— Кулаки? При чем они тут?
— А вот при чем! Ведь пальто, сапоги, мануфактуру, машины и многое другое изготовляют рабочие и присылают из города. А им нужен хлеб. Кулаки же прячут хлеб, не сдают его государству. Вот и задержка... Ну, прощайте!
Когда за Хасаном захлопнулась дверь, Сабира пристально взглянула на мужа. Тот отвернулся.
В это время с улицы прибежали Хазбулат и Акбулат. Увидев брата в новеньком пальто и сапогах, они остановились, как вкопанные, а когда им рассказали, что случилось, они кинулись к братишке и стали вертеть его во все стороны.
— Ай-яй-яй! Смотрите! Сзади-то с прорезом, как у учителя-агая!
— Обязательно! — солидно объяснил Хак- булат, почувствовав себя совершенно взрослым. — Это для того, чтобы полы не задевали ног при ходьбе.
— А зачем эти дверцы? — и Хазбулат показал на карманные клапаны.
— А затем, — ответил Хакбулат, словно удивляясь тому, что они не знают, — чтоб в карман снег не попал.
— Смотри-ка, сапоги! К голенищам пришиты тряпочки, чтобы удобнее было их натягивать.
— Да не для этого они.
— А для чего?
— Чтоб их можно было повесить на гвоздик, если хочешь знать.
Хакбулат знал решительно все. Кроме того, он оказался добрым братом и разрешил младшим примерить свои обновы. Хазбулату пальто было велико, он выглядывал из него, как из копны сена.
Ташбулат затянул свой кушак и вышел на улицу. Он шел медленно, медленнее, чем всегда. Он чувствовал, что ему многое надо продумать и не отодвигать в сторону, как он это делал обычно.
Вот уже неделя, как беднота, батраки и даже середняки объявили кулакам бойкот за несдачу хлеба государству; с ними не разговаривали, не здоровались при встрече, не заходили в их дома, отказывались принимать от них угощение.
А Ташбулат? Он пошел и собственными руками вырыл для Шарапа погреб. Правда, это было еще до того, как объявили бойкот. Ша- рап сказал ему тогда, что этот погреб нужен для молока и масла.
Для этого ли? Сомнение давно уже закралось в душу Ташбулату, только он подавлял его голос. «Ясно, для чего понадобился погреб. Хлеб прятать! Хасан, конечно, ничего об этом не знает, откуда ему знать, а ведь попал не в бровь, а в глаз. А может быть, знает, только сказать не хотел, неловко было ему за меня? И я покрываю дела Шарапа! Да, покрываю, раз молчу. Мало этого, вчера еще принял от Шарапа подачку; другие люди в сторону кулаков и глядеть не хотят, а я подарок взял. Нет, больше этому не бывать. Не бывать! Зернышка не возьму от них, подавись они!» На мельницу народу наехало сегодня довольно много. Ташбулат принялся сосредоточенно чистить желоб, по которому текла вода, от застрявших в нем веток и травы. Арлан, повизгивая, терся у его ног. Покончив с этим делом, Ташбулат подошел к группе крестьян, приехавших на мельницу. Здесь были приезжие из соседних деревень. Они рассказывали о своих делах. Оказывается, и в других местах, так же как в Аккуяне, народ все более ожесточается против кулаков; и в башкирских и русских деревнях одинаково все больше возлагают надежды на артели, все более прислушиваются к советской власти, показавшей себя другом трудящегося народа.
Ташбулат вспомнил, как из кассы взаимопомощи ему дали денег на корову, как выделили землю для посева, разрешили нарубить кольев для плетня, как бесплатно учат его детей в школе... А что сделал он для советской власти?
Ташбулат провел мучительную ночь. Долго глядел, как течет вода в реке, и ему все казалось, что шуршащие камыши шепчутся о нем, что звезды смотрят на него укоризненно.
Сабира тоже была в этот вечер сама не своя. Да тут еще Хакбулат неожиданно спросил:
— Почему мы не объявили бойкот Шара- пу-баю?
Словно соли посыпал на ее рану родной сын.
— Почему ты спрашиваешь об этом? — обратилась к сыну Сабира, стараясь казаться равнодушной.
— Потому что вчера они прислали нам милостыню. Вон их пирог, в старом горшке под нарами. Не дотронулся я до него.
Впервые в жизни Сабира не решилась сказать ничего в защиту мужа.
— Что ты меня спрашиваешь? Спроси отца, — ответила она сумрачно.
11 Учитель Гильман вышел из своего дома с увесистым ящиком в руках и остановился в раздумье: где ему искать Бикбулата — в канцелярии или дома? Вчера Гильман был на совещании учителей и перед отъездом зашел на почту. Там ему, кроме газет и писем, вручили посылку в полпуда весом. Почтальон, который перед тем довольно небрежно бросил на стол кипу газет, с большой осторожностью принес и поставил на стол этот ящик. Хотя почтальон хорошо знал Гильмана, он потребовал от него документы, тщательно записал его имя, отчество, фамилию, номер паспорта. Затем заставил Гильмана расписаться в одном месте, затем в другом месте и в третьем. После этого сказал:
— Военная посылка, лично Бикбулату Ха- лимуллину. Вручите в собственные руки. Только смотрите не потеряйте и не ставьте в сырое место. Понятно? — И он значительно поглядел на учителя.
Гильман сначала отказался было от посылки, сказав, что боится брать на себя такую ответственность, но заведующий почтой веско объявил: «Мы вас знаем и доверяем», — и Гильман согласился. Он обещал, что посылка будет доставлена по адресу. Об этом он сказал, понизив голос и оглянувшись предварительно по сторонам.
И вот теперь он стоял, держа посылку в обеих руках. Узнав от пробегавшего мальчика (что Бикбулат в сельсовете, Гильман направился туда. Бикбулат и Хаким, увидев учителя, осторожно делавшего каждый шаг и с необыкновенным напряжением глядевшего на белый ящик, который он нес бережно, как ребенка, переглянулись.
— Что это ты принес? — спросил Хаким. Гильман без слов поставил ящик на стол, а сам упал на стул и отер платком лоб, хотя вовсе и не вспотел.
Хаким и Бикбулат, заинтригованные поведением Гильмана, занялись посылкой.
— Ура! Из моей части! — воскликнул Бикбулат.
— Я так и знал, — проговорил Гильман и спросил: «Оружие?» Он произнес это таким тихим голосом, словно боялся, что, скажи он чуть громче, ящик взорвется и все присутствующие взлетят на воздух.
Бикбулат вскрыл ящик, взял лежавшее наверху письмо и пробежал его.
— Письмо от политрука!
И, положив свою широкую ладонь на ящик, торжественно объявил:
— Библиотечка!
В ящике оказалось около ста книг. Там были и небольшие брошюры, страниц в пятнадцать-двадцать и довольно объемистые книги. На многих книгах стояли автографы знакомых Бикбулату командиров.
— Вот они, командиры Красной Армии! Не забывают своих армейцев! Подарок прислали.
Учитель был несколько разочарован и даже, можно сказать, обижен. Ведь сколько он испытал в течение суток волнений! В конце концов радость взяла верх. Он стал рассказывать, не торопясь й со вкусом, о том, как он пришел на почту и как его там встретил заведующий, и с какими предосторожностями вынесли посылку, и как внимательно рассматривал заведующий его документы и его самого, Гильмана, и как сказал ему: «Мы вас знаем и вам доверяем», и как он решил даже ценой собственной жизни доставить ящик по назначению. Затем Гильман рассказал, что, приехав домой ночью, он немедленно положил посылку в сундук и крепко запер его, и что хотя он предполагал, что в ящике находится оружие, ни словом, ни движением не выдал жене своей догадки.
— Почему? — спросил Хаким.
— Как почему? Военная тайна! — серьезно ответил учитель. — Оказалось, однако, это вовсе не оружие...
— Как не оружие? — воскликнул Бикбулат. — Вы, агай, везли самое сильное оружие — оружие культуры.
— Стало быть, все в порядке, — заключил Хаким, — и вы, агай, ни в чем не ошиблись.
Глядя в окно вслед удаляющемуся Гиль- ману, Хаким сказал:
— Как изменился наш Гильман! Он книжник, при громком стуке вздрагивает, а взялся доставить ящик с оружием.
— Люди на наших глазах меняются, Ха- ким-агай! Я с людьми разговаривал — о колхозах только и толкуют. Подъем такой, что я уж подумал: не смелее ли надо шагнуть? Не в колхоз, а прямо в коммуну! Вы как думаете, Хаким-агай?
— Как я думаю? Я думаю, Бикбулат, хорошо, что у тебя сердце горячее, но было бы лучше, если бы и голова при этом была похолоднее. Возьми крестьянина: он понял, что вне артели ему нет жизни, что в колхоз — его единственный путь. Это, брат, вся масса чувствует, в народе подъем потому, что партия, товарищ Сталин верный путь крестьянину указали. Он идет в колхоз. Однако же есть и такие, которые сомневаются: «А как оно там будет, в колхозе? Не получится ли так, что сосед меньше меня работать будет, а я в дураках останусь?» — Что же делать?
— Что делать? Разъяснять — словом, примером. Слышал я не раз разговоры о том, что хорошо бы съездить в колхоз, который года два как существует, посмотреть, как там живут.
— И мне приходилось это слышать.
— Вот видишь! А ты говоришь — коммуна!
Бикбулат собрался что-то ответить, но открылась дверь и на пороге появился Ташбулат. Вид у него был утомленный, глаза красные, не то от бессонницы, не то от волнения. Двери открыл он смело, но порога не переступил и стоял, опустив глаза.
— Здравствуй, сверстник! — приветствовал его Хаким. — Проходи, присаживайся.
Ташбулат провел жесткой ладонью по лицу, словно стирая с него робость. Подошел вплотную к Хакиму и Бикбулату и возбужденно заговорил:
— Старик Шарап зарыл свой хлеб в конюшне, под дровами. Я сам, своими руками, рыл погреб. Идите и забирайте. Если спросят: кто сказал, прямо так и скажите: «Ташбулат сам явился и все рассказал».
Это неожиданное сообщение удивило Хакима и Бикбулата.
Они не сомневались в том, что Шарап прячет хлеб, только не знали, где. Ходили они к нему с понятыми, искали, сам Шарап усердно им помогал. «Где хотите, говорит, ищите, а хлеба у меня нет». Потайной погреб под нарами собственноручно открыл и другие укромные места показал. Ему, однако же, не поверили и, уходя, объявили, чтоб хлеб он привез, а где достать этот хлеб, ему лучше знать. И теперь Хаким подумал: «Не ловушка ли это, подстроенная Шарапом? Может быть, этот погреб, о котором говорит Ташбулат, вырыт для отвода глаз? Не к таким еще маневрам прибегал классовый враг!» Хаким, чтоб рассеять свои сомнения, спросил Ташбулата:
— Что же тебя побудило рассказать нам об этом?
— Хочется мне размотать перед вами нити моей души. Вчера Хасан принес пальто и сапоги моему сыну...
— А-а... — протянул Хаким. — Понятно! Хотел отблагодарить.
— Нет, сверстник, нет, не говори так, — взволновался Ташбулат. — Я боялся, что вы так подумаете, и из-за этого не хотел приходить. Ведь если я не пришел бы к вам и не сказал, где зарыт у Шарапа хлеб, вы за шиворот меня не взяли бы. Душа моя измаялась. Не потому я сказал, что Хасан подарок принес, а потому, что Шарап гостинец прислал. Я сначала не сообразил. Думал, думал... Ах, вот зачем! Подкупить меня захотел, чтоб я народ продал... Рассердился я...
— Наконец-то рассердился, — сказал Хаким.
— Я говорю не для того, чтобы получить от вас помощь, а от чистого сердца. Может, вы думаете, я пьян? Капли в рот не брал.
Лицо Ташбулата сморщилось: казалось, он сейчас заплачет.
— Так, — сказал Хаким, — хорошо. Ты как будто еще хотел что-то сказать?
— Да...
— Говори.
— Запиши меня в колхоз. И убери с мельницы. Не могу я там больше. Когда люди дружно работают, а я брожу один с собакой, тошно мне становится. Сердце мое чего-то искало, не знал я, чего... А сейчас вижу...
— Давно мы тебя ждали, сверстник, знали, что придешь! Остается одно — принеси заявление.
«Богатый день! — подумал Бикбулат. — Утром Гильман-агай, теперь Ташбулат-агай! Из разных слоев идут к нам люди».
Распахнулись двери, и не то что вошли — ворвались Хасан и Миньямал. Они узнали от Гильмана о книгах и прибежали сюда. Увидев книги, лежащие на столе, они бросились к ним. Хасан отложил себе целую стопку книг по сельскохозяйственным вопросам и загородил их своим телом, будто говоря: «Отдам только с собственной жизнью!» Бикбулат рассмеялся.
— Бери, бери! Только все прочти. Сразу станешь агрономом.
Миньямал тряхнула своими черными волосами, которые теперь выросли и достигали уже плеч.
— Эх, пропала я! Всю ночь напролет будет читать, керосин весь сожжет.
Хаким вступился за Хасана:
— Теперь осень, ночи длинные, не все же спать да спать.
12 Встав рано утром, отец Зульхизы Валид- агай вышел во двор, захватив зачем-то с собой топор. Конь встретил его ржаньем — просил корма. Корова, вытянув шею, тоже выжидательно глядела в его сторону. Овцы забегали по двору. Но Валид, казалось, ничего не замечал, погруженный в свои мысли. Он вышел за ворота, поглядел вдоль улицы, на которой в этот ранний час было еще совсем пустынно, и сплюнул с досады.
— Черт бы побрал этого Насыпа, — пробормотал он, — куда он запропастился?
Постояв немного у ворот, он вернулся во двор и в ответ на ржанье лошади только махнул рукой: дескать, потерпи, не до тебя тут.
Валид считался в деревне человеком среднего достатка. В своей семье он никому не позволял сидеть сложа руки. Жена, управившись по хозяйству, искала себе дела — то чинила мешки, то чесала шерсть, то вязала детям чулки. И для детей, даже когда они были еще маленькие, находили работу. Во время сева, на сенокосе, в разгар уборки, молотьбы они находились в поле вместе со взрослыми. Даже зимой не хватоло у них времени на учебу. Отец строго внушал им: «Не всякий, кто учится, будет муллой. Нечего тратить время попусту».
Несмотря на дружные старания всей семьи, Валид с трудом поддерживал свой достаток и, чтоб сохранить равновесие, выдал Зульхизу без ее согласия за кулака из соседней деревни. Сват обещал ему золотые горы, потратился, правда, на свадьбу, да и все. Даже не отдал обещанную лошадь. «Это, — сказал он, — единственная саврасая лошадь в моей конюшне; если ее отдам, из дома уйдет удача. Возьми лучше бычка». Пришлось удовольствоваться бычком. Когда Зульхиза ушла от мужа и вернулась домой, Валид хоть и сердился, но в душе был доволен. «Так ему и надо, скряге, — думал он, — да и мне урок: с кулаком родниться — добра не нажиться».
Стоит Валид-агай во дворе, злится. В это время из-под плетня вылезла соседская курица и принялась клевать валявшуюся солому. Валид увидел ее: «И эта туда же, — проворчал он, — к добру моему подбирается», — и безотчетно замахнулся топором на курицу; та, издав звук «карх» — «спасите», — кинулась опрометью обратно за плетень.
Во двор вошел Насып, и Валид встретил его сумрачно:
— Где пропадал? Ждешь тебя который день...
— Раньше не мог, — важно ответил Насып. — Разве с таким делом за час управишься? Все надо было выспросить, выглядеть, сообразить, что к чему. Вся судьба наша тут, а ты — поскорее!
Насып, такой же середняк, как и Валид, ездил в Шихабаловский совхоз, поглядеть, как там живут. Был у Насыпа там свояк, конюх, у которого можно было остановиться и не спеша все, как есть, разузнать. «Совхоз, — говорил Насып, — это значит советское хозяйство! Хозяйство, — значительно подчеркивал он. — Большевики хорошо воюют, заводы строят, а вот как с сельским хозяйством управляются, надо посмотреть, а потом и решать: идти в колхоз или еще подумать!» Узнал Валид и другие соседи, куда собирается Насып, пришли к нему и предложили:
— Ты много не разговаривай, а поезжай! Нам тоже интересно знать. Послужишь миру — благодарность от нас получишь.
И вот сейчас, вернувшись оттуда, Насып явился к Валиду.
— Садись и выкладывай, — коротко сказал Валид.
Целый час делился Насып своими впечатлениями. Валид слушал его молча, не перебил ни разу, а когда тот кончил, сказал:
— Еще раз расскажи.
— Так я же все рассказал.
— Я не хальфа, чтоб с первого раза все запомнить.
— О чем же тебе говорить?
— Насчет трактора.
— Этот самый трактор, скажу я тебе, оказывается, не только пашет. Он даже зимой вовсю работает. Вот мы с тобой руками до седьмого пота действуем, а там силу дает трактор. Большое облегчение! Без силы ведь в хозяйстве ни шагу. Сам понимаешь!
— Как не понимать! Только откуда ты знаешь, как трактор пашет? Ты видел, что ли? — Если скажу, что видел, то буду похож на дурака, который сказал: «Бороду-то видел, а вот головы не заметил». Зимой, конечно, не увидишь, как трактор пашет. Но силу его я видел, а потом плуг оглядел: трехлемешный. Величина каждого лемеха, как говорится, «умный скажет, дурак не поверит», с чем бы сравнить? — И Насып, осмотревшись, схватил подол своей шубы. — Вот какой ширины.
Валид недоверчиво прищурил глаз и взял в ладонь полу шубы Насыпа, словно это был лемех.
— Я сам было усомнился, — продолжал Насып. — Руками ощупал, веревкой измерил. Хочешь — верь, хочешь — нет. Мои глаза — твои глаза.
— Верю. А в конюшню заходил?
— Свояк-то мой конюх, как не зайти! Зашел, смотрю — выстроились лошадки в ряд, что твои ласточки. И корму они съедают меньше, чем наши кони, понимаешь, какое дело!
— Как так меньше?
— А так. В конюшне у них тепло, не то что у нас. В наших сараях холод, выходит, лошадь питается, чтобы сытой быть и чтоб согреться. А еще сколько корму истопчет зря! Там же стоит спокойно, тепло ей, чисто.
— Все же интересно бы узнать, как трактор пашет.
— Я, брат, выяснил, я хитрый. Свояк показал мне землю, вспаханную под зябь. Я, не будь дурак, схватил лопату — и туда. Снег расчистил, лопату воткнул в развороченную целину, вытащил, смотри, вон сколько, — и Насып указательным пальцем левой руки отмерил на правой сантиметров двадцать пять. — Смотрю я, дивлюсь и вдруг вижу — какой-то человек подходит. После узнал я, что это их председатель, называют его директор. «Ты, спрашивает, что здесь делаешь? Не клад ли ищешь?» Я в карман за словом, конечно, не полез. «Да, говорю, ищу. Мы, аккуянские, слышали, будто трактор достает из земли клад. Послали меня проверить». Директор рассмеялся — хороший оказался человек — и говорит: «Раз так, пойдем ео мной, я тебе еще кое- что покажу». Вводит он меня в помещение — чисто, красиво, тишина кругом. Смотрю — весы, не поверишь, вот такие маленькие, на них только перец вешать. Стаканчики стоят, из каких прежде богачи вино пили, и многое другое, всего сразу не расскажешь. Директор объяснил мне: «Мы тут, говорит, очищаем семена, проверяем их на всхожесть. Мы, говорит, посеем сто зерен и узнаем, сколько взойдет». Я и спрашиваю: «Ты бог, что ли, такие тайны узнаешь?» Директор смеется, а я спрашиваю: «И в колхозе, говорю, так будет?» Он серьезно так на меня посмотрел да и говорит: «И в колхозе будет, для этого стараемся». Тогда я сказал: «Раз так, я вступаю в колхоз».
— Так и сказал?
— Так и сказал.
Валид помолчал, молчал и Насып. Так продолжалось довольно долго.
— Значит, так и сказал: «Я вступаю в колхоз»? — повторил Валид.
— Так и сказал.
— Хорошо! Ну, а как быть с тем, что доходы в колхозе делят по едокам. К примеру, у меня в семье два работника и пять едоков, а у тебя два работника и десять едоков. Выходит, я на тебя работать буду, тебе выгодно вступать в колхоз, а мне какая выгода?
— Э, — махнул рукой Насып, — ты, видно, дальше своего плетня носа не высовываешь. Таких порядков, чтоб по едокам, в колхозе пет. Там расчет по труду производят. Лозунг такой есть, он говорит: «Кто не работает, тот не ест».
— Верно он говорит, твой лозунг. Этот лозунг для нас подходящий.
Насып поднялся с места, собираясь уходить.
— Ты куда это? — удивился Валид.
— Пора мне.
— Садись обратно, никуда я тебя не пущу, пока всего не узнаю.
— Да я тебе уже все рассказал.
— Садись, садись. Ты там пять дней пробыл, все уголки обшарил, с директором за руку здоровался — и хочешь за какой-нибудь час отделаться. Садись.
Пришлось Насыпу сесть и терпеливо повторить свой рассказ с самого начала.
13 — Ты бы хоть побрился, — укоризненно заметила Зульхиза Бикбулату. — Ходишь весь обросший. Которую ночь не спишь, куска хлеба как следует не прожуешь.
Зульхиза давно собиралась сказать об этом Бикбулату, но все крепилась, зная, какие горячие настали дни. Но сегодня, взглянув на осунувшееся лицо мужа, не выдержала:
— Совсем изведешься, того и гляди заболеешь.
— Сама знаешь, какие дни, — ответил Бикбулат. — Как в октябре семнадцатого года, решается судьба наша. Народ поднялся против кулака, не хочет больше терпеть его на своей шее, массами идет в колхозы.
— Знаю, вижу. А если ты свалишься да заболеешь?
Старик Халькес, слушавший этот разговор, повернулся к Зульхизе:
— Невестка! Гляди, гляди внимательнее на нашего белого петуха.
Зульхиза привыкла к замысловатым шуткам старика и всегда остерегалась, чтоб не оказаться в положении свекрови, держащей хвост лошади в руках. Она старалась если не отгадать стариковскую загадку, то, во всяком случае, не попасть впросак.
— А что с ним случилось, с петухом?
— У бедняги перья из хвоста повылезли.
Зульхиза, не понимая еще, к чему клонит Халькес, ответила:
— Его, должно быть, общипал соседский гусак.
Халькес расхохотался.
— Может случиться, что и гусак. Да ведь гусак — птица малая, его и винить нельзя.
— Кто же виноват?
— Сам петух, — ответил старик, показав на сына. — Не хочу я, чтоб мой сын был петухом подле гусака. Взгляни, на кого ты похож, — не то из тюрьмы тебя выпустили, не то из больницы. Ходи смело! Теперь наше время. А гусаков прочь с дороги!
— Хорошо ты сказал, отец! — ответил Бикбулат. — И драться надо, и самому быть в форме.
Он кончил бриться, когда зашел Хасан. У Хасана тоже был изнуренный вид, и глаза, красные от бессонных ночей.
— Важная новость, — сказал он Бикбу- лату.
— После, — остановил его Бикбулат.
Только вчера на закрытом партийном собрании Хаким довольно резко отчитал некоторых товарищей за ротозейство и недостаток бдительности. Правда, Бикбулат был уверен в Зульхизе и своем отце, знал, что может на них положиться, но партийная тайна есть партийная тайна.
Бикбулат вместе с Хасаном направился в сельсовет. Там они застали Хакима, разбирающего в столе бумаги.
— Опять здесь кто-то рылся, — сказал он сердито.
Бикбулат сел с Хасаном в сторонке и кивнул ему головой, чтоб тот рассказывал.
— После сигнала Ташбулата, — начал Хасан, — комсомольцы поставили караулы вокруг дома Шарапа. Все делалось в полной тайне, ни одна живая душа их не заметила.
— Это хорошо, что их не заметили. Но сами-то они что-нибудь заметили?
— А как же! — Хасан только и ждал этого вопроса. — Шарап дважды за ночь выходил с фонарем в сарай, к тому месту, на которое указал Ташбулат-агай. Значит, хлеб действительно там.
— Это все?
— Нет... не все... — значительно произнес Хасан.
Хаким отложил бумаги и стал прислушиваться.
— Фазулла видел, как в окнах мечети на мгновение зажегся свет, там кто-то чиркнул спичкой. Двое побежали туда, но дверь оказа- лась на замке.
— Может, ему померещилось?
— Видели все, не только Фазулла. Кроме того, Мустафа долго стоял у мечети, приложив ухо к стене; он уверяет, что слышал шаги.
— А сейчас, не знаешь, дверь на замке? — спросил Хаким.
— Должна быть на замке.
— Обычно ее закрывают на замок?
Хасан с улыбкой пожал плечами.
— Откуда нам знать? Мы в мечеть не ходим.
— А надо бы знать, время такое! — резко сказал Хаким. — Я вот тоже не хожу, однако- же знаю, что мечеть никогда не запирали на замок. В прежние времена даже ночью не вешали замок. Ступай-ка, проверь!
Хасан без слов выскочил на улицу и вскоре вернулся обратно:
— Висит.
Хаким встал и так тяжело оперся руками о стол, что ножки его зашатались. Затем сказал, не сводя глаз с присутствующих:
— Сегодня, друзья, ждите больших событий. Запомните этот день! — И, помолчав, добавил: — У меня только одно сомнение: сейчас открывать мечеть или немного подождать?
— Сейчас, сейчас же! — взволновался Хасан. — Надо же выяснить, что там.
Хаким не удержался от улыбки, но сегодня даже улыбка его была злой.
— Выяснить надо до того, как открывать.
Вот мы открывали амбары, а все же хлеба не находили, хотя знали, что у этих людей есть хлеб. И это роняло наш авторитет в глазах деревни. Поэтому надо все предусмотреть.
Хаким вынул из кармана вчетверо сложенную бумагу и сказал:
— Это письмо я получил из Судбазара, от Сайфуллина. Он пишет, что оттуда в самый разгар раскулачивания сбежал Гиляж. Кто-то видел его по дороге в нашу деревню. Сайфуллин подозревает, что он скрывается у кого- нибудь из наших баев.
— Он! — воскликнул Хасан. — Он и есть!
— Почему ты думаешь? — спросил Бикбулат.
— Он! Он! Он! — настойчиво повторял Хасан.
В эту минуту он вовсе не был похож на мужчину, который обзавелся семьей и остепенился. Это был восторженный юноша, если не сказать — подросток. Хаким и Бикбулат улыбнулись — им понравились пылкость и уверенность Хасана. Его горячность заразила и их.
— Все же почему ты решил, что это он там? — спросил Хаким.
— Чувствую! Как хотите, Хаким-агай, но чувствую я, что это он в мечети.
В это время с шумом распахнулась дверь. На пороге с чемоданчиком в руке стоял улыбающийся Салих Ягфаров. Даже Хакима покинуло его обычное хладнокровие, он бросился к вошедшему и принялся обнимать его.
— Друг появляется в трудную минуту! — и Хаким снова сжал его плечи.
— Я сам выпросился сюда, — здороваясь с остальными, ответил Салих. — Время горя' чее, кантком разослал людей в район. Куда же было мне ехать, как не в родное село!
— Тогда не будем терять времени. Нужен твой совет. Садись и слушай.
Хаким вкратце рассказал о последних событиях в селе.
— Гиляжу негде скрываться, кроме как в мечети, — уверенно заявил Салих. — Шарап и Шангарай его к себе не пустят. Я их знаю, у них у самих поджилки трясутся, они догадываются, что и за них скоро возьмутся! А в мечеть не так просто зайти, мечеть — место священное.
— А мы его ночью потихоньку изымем, — заметил Бикбулат.
— Зачем ночью? — возразил Салих. — Я вот по дороге заезжал в Александровку, к Новичкову, было к нему от канткома поручение. Кстати, он передал для тебя письмо, Бикбу- лат-агай. Так он рассказал такую историю. Выяснилось, что кулаки оборудовали в александровской церкви небольшой склад оружия. Новичков решил дождаться ближайшего воскресенья, когда соберется побольше народу, и тогда при всех раскрыть склад. «Пусть, говорит, кто еще сомневается, узнает, что замышляют против народа попы».
Все переглянулись.
— Что в письме? — спросил Хаким.
Бикбулат распечатал привезенное Салихом письмо и стал читать:
«Дорогой товарищ Бикбулат!
Вчера под вечер ваш мулла проезжал через нашу деревню. Тут приключилась с ним беда: закрутка лопнула у саней, и не где-нибудь, а, понимаешь ли, прямо перед самым домом нашего попа. Усматриваю я в сем событии перст божий, в чем, надеюсь, со мной согласишься. Поп рад был нежданному гостю и с почетом принял его. Голос свыше уведомил его до времени, что за столом он будет не один, и поп не торопился с ужином. К тому времени под прикрытием темноты наведался туда же еще кое-кто — подозреваю одного из Токаевых, должно быть, знаешь, отпетого беляка, ему давно в тюрьме место приготовлено. И началось у них пирование, а вернее сказать — совещание. Извещаю тебя об этом: может, пригодится, учти!
С коммунистическим приветом Новичков».
Бикбулат сложил письмо и выжидательно взглянул на Хакима.
— Действуй! — решительно сказал Хаким. Бикбулат вызвал сельского исполнителя. Весть о том, что собираются осмотреть мечеть, быстро облетела село, возле мечети собрался народ.
Хаким громко спросил:
— Почему мечеть на замке? Средь бела дня? По религиозному обычаю, она должна быть открыта. Это же не амбар, куда прячут добро! А вдруг там добро и спрятано? А? Пускай народ посмотрит.
Хаким поискал в толпе кого-то глазами.
— У кого ключ от мечети? Касым-агай, ты здесь?
Старик Касым, сторож мечети, медленно вышел из толпы. Вид у него был растерянный.
— У меня нет ключа, — сказал он, — вчера сам мулла отобрал его. Сказал, что уезжает. А топить помещение, сказал он, будет муэдзин.
— А куда он уехал? — спросил Хаким.
— Не знаю. Я слышал, как он говорил жене, что не скоро вернется. Говорил важно, словно проповедь читал. Я так и не понял, что к чему. Разве поймешь их язык?
Один из комсомольцев подобрал ключ, открыл замок. Народ хлынул внутрь. Любопытные стали спускаться в подвал, другие поднялись на минарет. Не прошло и минуты, как из погреба вытащили неизвестного человека. Одежда его была в грязи, в волосах запутались солома и сено, лицо опухло. Он стоял, угрюмо опустив голову. Наступила зловещая тишина. Даже те, которые перед этим недовольно ворчали, считая кощунством осмотр мечети, сейчас стояли пораженные. Ведь в их сознании мечеть была святым местом. Все будничное, все касающееся земной жизни, — все это лежало за священным порогом мечети. Сами доски и бревна, из которых была построена мечеть, казались им срубленными в волшебном райском лесу. Даже мыши и крысы, казалось им, не смели близко подходить к этому месту. А теперь в ней укрывался злоумышленник.
В этот день ореол мечети померк в глазах многих верующих.
— Кто ты? — громкий голос Хакима нарушил тяжелую тишину.
Незнакомец взглянул на Хакима и сразу понял, что запираться бесполезно.
— Из Судбазара, Гиляж, — сказал он сквозь зубы, бросив волчий взгляд вокруг.
Почти вся деревня сбежалась к месту происшествия.
Стояла солнечная погода, но мороз был крепкий, и снег скрипел под ногами. Когда Гиляжа повели, люди шли сзади. Никто не захотел подойти близко, коснуться его.
Когда Гиляжа подвели к амбару, чтобы запереть его там, произошло событие, которое никто не предвидел, даже Хаким. Впоследствии он не раз вспоминал свою оплошность, что забыл обыскать Гиляжа. У ворот амбара кулак обернулся, чтобы еще раз взглянуть на толпу, перед которой он предстал сегодня в таком позорном виде, и вдруг увидел Салиха. Глаза Гиляжа налились кровью, он вспомнил ночь, когда у него остановились Салих с Горячевым, и решил, что не кто иной, как Салих, открыл его местонахождение.
Он кинулся к нему.
— Так это ты?!
И не стал дожидаться ответа. Из рукава его выскользнул нож, он подхватил его тяжелой ладонью и изо всей силы ударил Салиха в грудь. Толпа ахнула и разразилась таким страшным криком, что если бы Бикбулат не втолкнул Гиляжа в амбар и не захлопнул за ним двери, она растерзала бы его на части.
Потерявшего сознание Салиха понесли в дом к Бикбулату и срочно поскакали в волость за фельдшером.
Толпа окружила Бикбулата.
— Зачем его в амбар упрятал? Давай его сюда!
— Гиляж предстанет перед судом и ответит по закону. Суд — народный и по головке его не погладит. Можете считать, что видите его в последний раз, — сказал Бикбулат.
— Я ему, собаке, лишней минуты не дам дышать. Тащи его обратно!
Сказавший эти слова немолодой приземистый человек оттолкнул Бикбулата и бросился к амбару.
— Касым, ты куда? — остановил его Хаким.
Касым был бедняк, многосемейный, задавленный нуждой. Когда речь зашла о раскулачивании, он сказал раздумчиво: «А не погодить ли еще? Может, они, мироеды, одумаются? Может, совесть в них заговорит?» Сегодняшний случай ожесточил его; со всей ясностью он вдруг понял, что если будут хозяйствовать Гиляжи, то ему, Касыму, не жить. Быть либо одному, либо другому, иного выхода нет!
— Куда ты так заторопился? — остановил его Хаким. — На Гиляжа собрался? Не замечал я за тобой раньше такой прыти. Помню, замахивался ты не раз, а ударить не решался. А они, видишь ли, решились. Кровью родича твоего обагрили твою землю...
Касым стоял понурившись. Не он один в толпе отнес к себе слова Хакима.
— Видели святого? — громко обратился Хаким к народу, кивнув головой на амбар. — А хотите, покажу вам еще одного, только уже не приезжего, а местного?
И он направился к дому Шарапа. Народ повалил за ним. Собаки с рычанием выбежали из ворот, но при виде толпы трусливо поджали хвосты и убрались за конюшню.
В дверях показался сам Шарап.
— Что за базар? — спросил он грозно.
— Не базар, а ярмарка, — ответил кто-то. В толпе рассмеялись недобрым смехом.
— Где хлеб? — сурово спросил Хаким.
Этот вопрос Шарап слышал неоднократно и ответил, как обычно.
— Мой хлеб в амбаре у государства. Все забрали! — крикнул он, жалобно поглядывая на толпу и как бы ища у нее сочувствия. — Даже пуда зерна не оставили! Ребенка накормить нечем!... Не веришь? — крикнул он истошно Хакиму и бросил в его сторону связку ключей. — На, ищи!
Хаким извернулся, а тяжелая связка попала стоявшему неподалеку мальчику в ногу. Бедняжка громко заплакал.
Кто-то в толпе проговорил:
— Есть ли у него хлеб? Ведь все перерыли, не нашли.
Вдруг, расталкивая толпу, вышел Ташбулат и бросил горящий взгляд в сторону того, кто только что посочувствовал Шарапу.
— Нет, говоришь? — крикнул он с силой, которую трудно было подозревать в этом всегда робком, забитом человеке.
Шарап побледнел и весь как-то обмяк. Тонким, скулящим голосом он прошептал:
— Ташбулат!
Больше он не в состоянии был издать ни звука.
А Ташбулат, даже не взглянув на него, прямо пошел к сараю. Народ устремился за ним. Зайдя внутрь, Ташбулат принялся с необыкновенной быстротой разбирать сложенные там бревна. Многие кинулись помогать ему. Когда место было очищено от дров, все увидели сырую глинистую землю, будто здесь недавно рыли колодец.
— Возьмите лопаты! — скомандовал Ташбулат.
Люди не заставили себя просить.
Хаким отошел в сторону и позвал с собой Бикбулата и Хасана, — раз дело приняло такой оборот, пусть народ и доведет его до конца.
Люди принялись выносить из конюшни пятипудовые мешки, пахнувшие землей, и складывать их во дворе. Фазулла, никого не спрашивая, вывел из конюшни лошадь Шарапа, запояг ее в сани и повез хлеб в общественный амбар. Люди не расходились до тех пор, пока в яме не осталось ни зернышка и амбар не был надежно закрыт.
Рана Салиха оказалась неопасной. Прибывший из волости фельдшер внимательно осмотрел ее и сказал, что для беспокойства нет оснований, но крови ушло много и раненому придется полежать.
Зульхиза ухаживала за ним, как за родным братом, а Халькес, присев у кровати, принялся, как ни в чем не бывало, рассказывать всякого рода веселые истории.
— Отец, — с укоризной взглянула на него Зульхиза, — оставили бы вы его сейчас. До шуток ли ему?
— Погоди, сноха, — ответил Халькес. — Я хоть не доктор, а исцелю его. Не знаю, поможет ли ему фельдшерская мазь, а шутка моя поможет. От шутки еще никто не умирал.
Вечером вместе с Бикбулатом пришли Хаким и Хасан. Хаким рассказал о событиях за день. Сообщение его походило на доклад, говорил он строго, отчетливо и деловито, как на собрании, хотя из слушателей, перед которыми он отчитывался, был один — Салих.
Салих слабо улыбался, одобрительно кивая головой, — говорить ему было трудно.
14 Покушение на Салиха, обыск у Шарапа, у которого к тому же нашли спрятанную в санях винтовку с патронами, взбудоражили все село.
Многие поздно легли в эту ночь, а некоторые и вовсе не ложились, все обсуждали события дня.
— Они нашей крови не жалеют, и мы не дадим им пощады.
— Раз уж Касым лезет драться, считайте, что деться им некуда.
— Салих грудью встал за народ.
— Как отец.
— А этот Шарап настоящий хомяк, все добро в нору запрятал. А каким святым прикидывался!
— Первейший негодяй! Ты скажи, откуда у него ружье может быть? Был бы на войне — туда-сюда, понятное дело.
— Собака снюхалась с другой собакой.
— Видно, ждал удобного случая.
— Не иначе. Зачем оружие зря держать?!
— А мы рот и разинули...
— Хватит, теперь ученые.
— То-то, ученые! А дальше как будем с ними?
— Дальше? Аркан им на шею и долой С коня. Довольно! Гнать их надо с нашей земли. Ни одного чтоб не осталось. Мы сами сила.
— Это дело.
На старика Валида обыск у Шарапа тоже произвел сильное впечатление. «Видал, какое дело? — сказал он Насыпу. — Народным потом хлеб добыл и от народа же, собака, спрятал».
Валид давно хотел пойти к Бикбул ату, но решил предварительно поговорить с дочерью, у которой не был со дня свадьбы. Зульхизе показался странным приход отца без приглашения, она даже опасалась, не станет ли он звать ее обратно домой.
— Здравствуй, отец. Проходи, будь гостем.
Валид зашел в горницу и, оглядевшись, спросил у дочери, где лежит Салих. Зульхиза кивнула головой на полог. Валид осторожно открыл его и, стараясь даже не дышать, долго смотрел на спящего Салиха. Покачав головой, он осторожно шагнул назад, тихонько опустив полог.
— Как он? — шепотом спросил Валид.
— Лучше, — ответила Зульхиза. — Да ты садись, отец.
Валид присел на стул и осмотрелся вокруг.
С появлением Зульхнзы дом Халькеса преобразился: пол чистый до желтизны, печь све- жевыбелена, на окнах цветы, на стене в рамках портреты Ленина и Сталина. «Портреты молодые принесли, а рамки, видно, старик сделал», — подумал Валид.
— Я, дочка, — сказал он, — давно собираюсь поговорить с зятем. Но решил прежде посоветоваться с тобой.
— Спасибо за доверие, отец, — сказала Зульхиза с удивлением: ни разу за всю жизнь он не обращался к ней за советом.
— Голова у меня трещит, дочка, сил моих нет.
— Что с тобой, отец? — встревожилась Зульхиза. — Сколько я тебя помню, никогда у тебя голова не болела.
Валиду не хотелось сразу все выкладывать, и он начал издалека.
— Нет, дочка, ты этого не замечала, всю жизнь болит у меня голова. Только ни вам, детям, ни матери я про то не рассказывал. И сегодня тебе первой говорю. Я крестьянин, трудовой крестьянин. Чужого куска хлеба в рот не брал. Всю жизнь сам не спал, роздыху не давал ни матери, ни вам, детям. Много горького пота я пролил, прежде чем достиг среднего достатка, приобрел лошадь, корову, овец. Скрывать не стану, мечтал я стать богатым вроде Шангарая-купца или Шарапа. Да понял я, наконец, что... ты слушаешь, дочка?
— Слушаю, отец!
— Работая в поте лица своего, богатым не станешь. Это я знаю твердо. Либо ты разоришь других и тогда разбогатеешь, либо тебя другие разорят и сами разбогатеют. Норовлю я в Шарапы попасть, а как раз в Ташбулаты угожу, если попрежнему жить будем. Вот какое дело. А в колхозе что? Сила! Вот пример тебе — пока есть у меня лошадь, то хоть с маленьким плугом, а управляюсь я. Могу пахать, хлеб сеять. А если завтра напорется мой конь на плетень или задерет его волк, тогда что? Конец мне, без рук я, без ног. А в колхозе такого быть не может. Обрадованная Зульхиза встала с места и пересела поближе к отцу.
— Слово в слово то же говорят Хаким- агай и твой зять.
Валид махнул рукой.
— Не знаю, что они говорят, не слушал я их. Я хотел понять все сам, своим умом. Вот недавно ко мне Насып пришел, газету принес, слова Сталина читал. Удивился я: да как же подслушал Сталин мои мысли, которые я, простой крестьянин, втайне от собственной жены и детей вынашивал? Я человек, привыкший семь раз отмерить, прежде чем отрезать. Все крестьяне делают так, все как есть. А я не семь, а семьдесят семь раз мерил — и отмерил. Так вот слушай! — И Валид торжественным голосом произнес: — Завтра запрягаю лошадь и еду в колхоз. Есть у меня восемь пудов очищенной пшеницы, шесть пудов овса, четыре пуда проса — отвезу и сдам. Только ты предупреди Бикбулата, скажу я ему при всем честном народе, не посмотрю, что он мой зять, скажу, зачем иду в колхоз. Не затем, чтоб живот свой на печке греть, а затем, чтоб работать, и от всех потребую, чтоб работали, слышишь? У меня толокно будет сухим, а репа круглой, слышишь? — И Валид помахал огромным кулаком перед лицом Зульхизы, которая от этих угроз только просияла.
Вошел Бикбулат и не поверил своим глазам, когда увидел Валида. Валид поднялся навстречу зятю.
— Тесть же мой пришел, не кто-нибудь другой, — сказал Бикбулат, обратившись к жене. — А твой самовар на печи!
— Сейчас будет готов, в котле горячая вода, — откликнулась Зульхиза и бросилась к печке.
Валид, несмотря на приглашения Бикбула- та, не стал садиться. Он ударил себя в грудь и воскликнул:
— У меня здесь кипит самовар!
И вдруг вспомнив, что он мог своим криком разбудить Салиха, испуганно поглядел на полог и на цыпочках вышел.
Бикбулат с недоумением проводил глазами тестя и спросил:
— Какая муха его укусила?
— Хорошая муха! Колхозная! — ответила Зулхиза, тихо засмеявшись, и рассказала, зачем приходил отец.
Бикбулат подошел к кровати, на которой лежал Салих, и, откинув полог, долго смотрел на него. Лицо у Салиха побледнело, осунулось. Он теперь был очень похож на старого Ягфарова.
— Бедняжка! — вздохнула Зульхиза.
— Ничего, он поправится! Ты знаешь, это нападение па него расшевелило даже самых нерешительных.
— Сегодня почти вся деревня побывала у нас, все справляются о здоровье Салиха. А жена Ташбулата принесла печенки: «Очень, говорит, помогает при потере крови».
Бикбулат тихонько отошел к окну и вытащил портсигар. Зульхиза поднесла ему спички. Бикбулат вдруг заметил, что Зульхиза пополнела.
— Не только твой отец, Зульхиза, но и другие середняки идут в колхоз, — сказал он. — Мы с тобой еще молодыми встретили революцию и сейчас закрепляем ее победу. А наш будущий сын или дочь, которая должна быть как две капли похожа на тебя, вступят в жизнь, чтоб вести дальнейшую борьбу за социализм. Как мы их назовем?
Последний вопрос особенно пришелся по душе Зульхизе. Она бросилась бы ему в объятья, если бы не отсутствие занавесок на окнах. Она ласково погладила волосы мужа.
— Если будет мальчик, назовем Ишбула- том, — сказала она тихо.
— А если девочка?
— Это уж ты скажи.
— Назовем ее Зульфией. Хорошее имя?
— Хорошее.
Зульхиза с досадой взглянула на окна и сказала мужу:
— Когда будешь в волости, обязательно купи занавески.
— Ладно, — ответил Бикбулат, не понимая, зачем в серьезный разговор жена приплела оконные занавески.
На собрание люди пришли раньше времени. Ташбулат, который обычно являлся одним из последних и устраивался где-нибудь у дверей, чтоб легче было уйти, сегодня был в числе первых и прошел вперед, чтоб сесть у самой трибуны. Явился он как на праздник, борода его была причесана так гладко, что с нее, не запутавшись, мог скатиться таракан. Когда он вошел, приказчик Гиният расхваливал привезенные в сельпо товары:
— Ну, ребята, привез я папиросы, раньше только офицеры такие курили, — «Тары-бары» называются, слаще сливок. А для девушек духи. Торопитесь купить!
Увидев Ташбулата, он повернулся к нему и сказал с почтением:
— Не закурите ли одну, Ташбулат-агай?
Ташбулат курил редко. Когда, случалось, его угощали, он брал, но стеснялся. А сегодня взял охотно.
— Что ж, давай попробую. Когда я служил у Холодковского, барыня дала мне докурить свою папиросу и сказала мужу: «Смотри, как папироса идет к усам Ташбулата». Говорит, а сама хохочет. Любили они над людьми посмеяться.
Гайнулла, некогда разъяснявший людям, что такое театр, и сейчас решил показать свои знания:
— Путаешь ты что-то, Ташбулат-агай. Они не простые папиросы курили, а особые, барские, без всякой бумаги, из одного табачного листа свернутые.
Однако не для того, чтоб узнать разницу между папиросой и сигарой, собрались сегодня люди, а чтоб узнать разницу между единоличным и колхозным хозяйством. Повернувшись к Насыпу, кто-то сказал:
— Расскажи-ка, Насып, про свою поездку, не все еще слыхали.
Народу собралось в помещении довольно много, и Насып принялся излагать известный всем либо от него лично, либо из третьих уст рассказ о поездке в шихабаловский совхоз. Когда Насып кончил говорить, помещение было переполнено. Кто-то, только что пришедший прямо из бани, взмолился:
— Расскажи еще раз!
— Если бы тебе очень хотелось знать, не парился бы так долго, — ответили ему. Гиният обратился к Насыпу:
— Значит, ты тогда сразу сказал директору: «Вступаю в колхоз»?
— Сразу и сказал. И если бы ты видел то, что я видел, то же бы сказал.
— Надо бы тебе, Насып-агай, Валиду-агаю все это рассказать. Ты же знаешь, какой он медлительный, недоверчивый, а тут живой человек своими глазами видел.
— Рассказывал я ему, — ответил Насып, — хотите — верьте, хотите — нет, четыре раза подряд рассказывал.
— А где же он сам? — спросил Хаким. — Народ в сборе, а его нет.
— Я видел, как он запрягал лошадь, — сказал кто-то, — видно, куда-то собрался и вряд ли придет.
— Куда же он мог поехать на ночь глядя?
— Может, сам решил в совхоз наведаться. Собрание началось с информации Хасана о ходе подготовки к весеннему севу. Выяснилось, что дела идут удовлетворительно, но единоличники не торопятся во вред себе и другим. Семян достаточно и для колхоза и для индивидуальных хозяйств. Двадцать пять процентов конфискованного у кулаков хлеба пошло беднякам. Но бедняки решили разделить между собой десять процентов, а остальные сдать государству.
Когда доклад подходил к концу, за окном послышался скрип полозьев и фырканье коня. Видимо, приехал кто-то из волости. Во тьме, царившей во дворе, трудно было различить, кто это. Насып, прикрыв ладонью глаза, всмотрелся в окно.
— Да это же Валид-агай! Только почему на лошади?
— Завернул по дороге, — высказал кто-то предположение.
Сомнения разрешил сам Валид. Он вошел в короткой шубе, подпоясанной кушаком, из рукава торчала плетка. Своим видом Валид скорее напоминал человека, собравшегося на работу, а никак не в дорогу.
— Салям-алейкум! — обратился он к присутствующим.
Люди переглянулись. Обычая здороваться с собранием не было, в то же время в голосе Валида не чувствовалось шутки. Наоборот, он был серьезен, даже серьезнее обычного.
Только Зульхиза и Бикбулат догадывались, в чем дело.
— Садись, — пригласил его Хаким. — Почему с лошадью? Собираешься ехать куда?
— Уже приехал. Сюда приехал, в колхоз, и не с пустыми руками, а с конем, с телегой, с семенами.
И, обращаясь к Бикбулату, Валид наставительно заявил:
— Не с ложкой иду к вам, а вот с этими руками. А тут мое заявление, — он вытащил из-за пазухи бумагу. — Здесь все сказано.
Хаким усадил Валида на скамью и, дав ему время успокоиться, сказал:
— Заявление оставь нам. А лошадь и семена можешь пока взять домой. Сейчас здесь не колхозное собрание, а общедеревенское. Уверен, что правление тебя примет.
Больше всех был удивлен Насып:
— Почему так случилось, друг, что ты раньше меня заявление подал? — Потому, что я больше насчет дела, а ты насчет слов, — съязвил Валид.
Все громко расхохотались.
Собрание продолжалось недолго. Все единодушно решили выйти в поле сеять.
Последним выступил Ташбулат.
— Товарищи крестьяне, — сказал он взволнованно, — неужели мы будем терпеть кулаков на земле, политой нашим потом? Хватит!
— Правильно! — закричали со всех сторон.
— Выгнать их из нашей деревни!
— Чтобы и следа их не осталось!
Собрание единогласно решило выселить кулаков из деревни, а имущество их конфисковать. На этом оно закончилось. Все окружили Бикбулата и Зульхизу и расспрашивали о Салихе. Их интересовало все: и как он себя чувствует, и что ест, и чем лечится. Надавали тысячи советов, как быстрее вылечить.
Бикбулат и Зульхиза пошли домой, а Хасан, Миньямал и учитель Гильман остались после собрания и до зари провели время в задушевных разговорах.
Когда они вышли на улицу, занималась заря. Большая Медведица успела значительно переместиться за это время. Слабо мерцал ее звездный хвост. Сырой, теплый ветер стлался по земле. Кричали первые петухи.
— Утро... — сказала Миньямал, взяв за руку Хасана.
— И воздух стал чище с тех пор, как убрали эту нечисть — Шангараев с Шарапа- ми, — заметил Хасан.
Все были удивлены, когда обычно суровый и деловитый Хаким мечтательно пропел: Заря, заря занимается, Будит утро ранняя звезда.
И добавил:
— Сегодняшнее солнце увидит последних единоличников нашей деревни.
— Вы сказали, как поэт, Хаким-агай, — заметила Миньямал.
15 Ташбулат повесил на дверях колхозного амбара, раньше принадлежавшего Шарапу- баю, новый замок. Замок и ключи только вчера были куплены в сельпо, и Ташбулат тщательно смазал их машинным маслом. Даже не вытерев испачканные маслом руки, он сунул ключ в карман и вышел на улицу.
Вчера Хаким сказал ему: «Если найдешь свободное время, зайди, пожалуйста!» Так и сказал! Значит, если Ташбулату будет недосуг, то он может и не заходить. Ведь вот как уважительно разговаривают с ним, вчера подневольным батраком, а ныне свободным колхозником! Ташбулат медленно шел по улице и улыбался от радости обретенного чувства человеческого достоинства.
В канцелярии Ташбулат застал только Миньямал и Зульхизу, которая, сидя на подоконнике, подбрасывала на ладони два небольших винта. Она спросила:
— Ташбулат-агай, не найдется ли у вас на мельнице таких вот винтов? А то нечем закрепить сепаратор.
Ташбулат повертел в руках винтики и вернул их обратно.
— Кажется, я видел такие у своих ребят, они их гоняли палками по льду. Поищу...
— Поищите, Ташбулат-агай. Сколько будет стоить, заплатим.
Ташбулат нахмурился.
— Заплатите? А кто вас просит платить?
— Она просто так болтает, — вступилась за подругу Миньямал.
Обе они улыбались.
— А того не может понять, — продолжал Ташбулат, успокаиваясь, — что сепаратор не только ей дорог, но и мне, и я ему хозяин!
— Не сердитесь, Ташбулат-агай, — примирительно сказала Зульхиза, — давайте лучше подпишите вот эту бумагу. Это акт на полученные вами доски.
Ташбулат ставит свою подпись четвертый раз в жизни.
В первый раз, много лет назад, он ее поставил, когда его взяли в солдаты; что он подписывал, он не знал, спросить боялся, а никто из начальства не объяснил. После люди говорили разное: одни — что это присяга на верность царю, другие — что расписка в получении обмундирования. Второй раз он поставил свою подпись при заключении договора с Ша- рапом-баем. Бай сделал вид, что оказывает великое одолжение Ташбулату, соглашаясь на договор. А сегодня Ташбулату довелось дважды за день поставить свою подпись. Теперь он знает, что подписывает и какова цена его подписи. Она измеряется не только ценностью, которую он должен получить, но и доверием, оказываемым ему советской властью. Он получил замок для общественного амбара, а сейчас — доски. Народ доверил ему свое добро.
А он обязался его сохранить. Вот цена его подписи. Раньше, подписываясь под царской или кулацкой бумагой, он ставил вместо фамилии значок. Теперь неловко стало, и он попросил детей научить его писать собственную фамилию. И сейчас, покрываясь потом, он стал выводить букву за буквой, в одном месте даже прорвал карандашом бумагу. Закончив эту операцию, он облегченно вздохнул, как после изнурительной работы, и залюбовался делом своих рук. Ему казалось, что поднимающиеся снизу вверх буквы — не подпись его, а тот путь, который он прошел от подневольного раба до свободного человека. И он осторожно положил бумагу перед Миньямал.
Она сказала ему:
— Спасибо!
«Вас нужно благодарить за доверие, а не меня», — подумал Ташбулат.
Ему многое еще хотелось сказать, всю жизнь он молчал, все думал про себя, с опаской поглядывая вокруг, а ныне душа просилась наружу. Не зная, с чего начать, он вытащил из кармана ключ и принялся его разглядывать.
Зульхиза удивилась:
— Никогда не видела таких больших ключей.
— А я первый раз в жизни держу их в своих руках. Да и к чему мне были раньше ключи, что мне было запирать? Больше держал в руках упряжь байских коней. А сейчас, видишь, как разбогател. Ключ от самого большого в деревне амбара у меня в руках.
— И маслом успели уҗе смазать, — заметила Зульхиза.
— Смазал, чтоб не ржавел, чтоб всегда был как новый.
Вот Ташбулат идет по улице.
День ясный, солнечный. Ночью выпал обильный снег и покрыл деревню ровным белоснежным покровом, — ни черного, ни серого пятнышка, белым-бело! Только дорога вдоль улицы да тропинки у домов слегка протоптаны. Ташбулат идет по самой середине улицы, твердо, уверенно, не сгибая спины, не пряча робко глаза, идет как хозяин. Хорошее это чувство!
Дома его радостно встретили Сабира и дети. И даже в бедной избе их с маленькими окошками стало как-то светлее.
Сабира поставила на стол давно вскипевший и поджидавший хозяина самовар. Ташбулат не спеша развязал кушак, снял чекмень и повесил его на гвоздь. Затем вытащил из кармана ключ и протянул его жене с таким серьезным и значительным видом, что та, хоть и видела перед собой ключ, спросила:
— Что это?
— Ключ! Ты повесь его на самое видное место.
Подбежали дети: они хотели не только знать, откуда такой огромный ключ, но и разглядеть его хорошенько, потрогать своими руками.
— Наш ключ, — торжественно сказал Ташбулат, подняв его над головой, — от колхозного амбара!
Сабира подержала ключ в руках, но дети очень скоро вытащили его из ее ладони. Ташбулат хотел было прикрикнуть на детей, чтобы осторожнее обращались с этой вещью, но, вспомнив, что ключ железный, а не стеклян* ный, промолчал. Дети долго рассматривали диковинный ключ, и Ташбулат, видя его в руках своих детей, ключ, который он всю жизнь искал и, наконец, нашел, почувствовал, как слезы навернулись ему на глаза. Ташбулат взглянул на Сабиру, а та все время не спускала с мужа своих тоже увлажненных глаз. Без слов они поняли друг друга.
— Ребята, — обратился к детям Ташбулат. — Вы, кажется, гоняли на днях винты по льду. Где они?
— А зачем они? — спросил Хазбулат.
— Нужны сельсовету. Зульхизе нечем прикрепить сепаратор.
Ребята принялись за поиски: один залез под лавку, другой — за печь, третий вытащил из-за двери старые тряпки, в которые он когда-то запрятал винт. И не успели Ташбулат и Сабира опомниться, как ребята, накинув на себя пальто и шапки, бросились вон из избы. Они опасались, как бы кто-нибудь не предупредил их и не доставил в сельсовет требуемые винты.
Ташбулат и Сабира остались одни.
— Они всегда так: стоит им сказать, что Бикбулат просил что-нибудь, так они готовы в лепешку расшибиться.
Называя Бикбулата, Сабира имела в виду колхоз.
Затем она взяла ключ и повесила его на самом видном месте, над окном. ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ К городу приближался тарантас, запряженный парой лошадей. Чем ближе к городу, тем чаще встречались телеги и машины, тем становилось люднее. На утренней прохладе лошади не сильно утомлялись, но когда солнце поднялось высоко, наполняя воздух зноем, лошади взмокли, будто их облили водой, а из- под шлей у них выступила белая пена.
Уже больше часа прошло с тех пор, как показалась водонапорная башня и первые городские здания, а расстояние все как будто не уменьшалось. Казалось, что лошади бегут на месте, а земля скользит обратно, не приближая путников к городу.
— Никак не приедем, — с досадой сказал Салих Ягфаров сидевшему рядом Агзамско- му.
— Уж очень скоро ты хочешь доехать, — ответил Агзамский и, стараясь показать, что сам он нисколько не спешит, спокойно вынул из кармана портсигар с изображением слона на крышке, достал папиросу, легонько постучал ею о портсигар и сунул в рот.
— Что тебе! Ты за год раза три-четыре побываешь в городе, ты, конечно, можешь и не спешить. А я почти три года не был здесь. Три года! В наше время срок немалый.
— Да, ты прав, в наше время это действительно немалый срок. А ну-ка, друг, давай дадим себе отчет — что мы с тобой сделали за эти три года.
Салих сам не прочь был подвести итоги своей жизни за эти годы, но за час оставшегося пути разве вспомнишь все три года?
— Нет, — возразил он, — это тебе не отчет об агитмассовой работе за истекший квартал, да и там потребовалось бы не меньше двух- трех дней — подобрать цифры, докладные просмотреть.
И вдруг Салих с увлечением стал рассказывать.
— Почти три года назад я шел пешком по этой самой дороге. За спиной у меня был мешок с книгами, тетрадями и хлебом, в руках палка. Может быть, вот на этом бугорке я тогда присел отдохнуть и в последний раз взглянул на город. С тех пор не пришлось мне бывать здесь, почему — сам знаешь. Побывал я за это время во многих местах, а в Уфу так и не удосужился съездить.
— И тебя сюда ничто не тянуло?
— Меня-то не тянуло? Я ведь тут учился, а сестры мои и теперь здесь учатся.
— А у меня всегда было такое впечатление, что деревня тебе больше по душе. Ты охотно ездил и в Аккуян и в Судбазар, работал там с огоньком, по не помню, чтобы ты особенно просился в город. Ты сам говорил, что радуешься, когда видишь, как на твоих глазах растут люди в деревнях.
— Да, это всегда бывает приятно.
— О чем же жалеть? Сейчас круг твоей деятельности расширится. Хоть и с некоторым опозданием, а все-таки ты едешь в город.
— О нет! Я приезжаю как раз во-время. Опоздай я на неделю, было бы уже поздно.
— Почему? — удивился Агзамский.
— Мои товарищи, с которыми я учился в техникуме, как раз теперь сдают зачеты. Через неделю они разъедутся на места, и я не увидел бы их.
— Ты переписывался с ними?
— Н-нет...
Салих и на этот раз ничего не сказал о переписке с Корбанбикә: она считала нужным скрывать свою переписку от подруг, и Салих решил поступить так же. Есть такие вещи, о которых не говорят даже с друзьями.
Агзамский обратился к кучеру:
— Дружок! Разве ты не видишь, что Салиху Ягфарову не терпится скорее попасть в город? Подгони-ка лошадей!
Кучер взмахнул кнутом, и лошади прибавили шаг. Теперь город был уже совсем близко. Он медленно приближался со своими высокими обрывами, белыми зданиями, зелеными деревьями. Въехали на деревянный мост — стали слышны гудки заводов и пароходов. Наконец, колеса застучали по камням мостовой, и тарантас стало сильно потряхивать.
— Ты, конечно, остановишься у нас, — сказал Агзамский.
— Неудобно, да и зачем? Раз мы уж в городе, пусть все будет по-городскому. Ты поезжай к родителям, а я возьму номер в гостинице. Схожу в баню, помоюсь на славу и потом до начала конференции поброжу по городу. Ведь мать твоя, наверное, соскучилась по тебе, и я не хочу мешать ей хлопотать вокруг тебя. А там и Надя к тебе придет...
— И все-таки, — возразил Агзамский, — несмотря ни на что, ты поедешь к нам. Мои старики будут тебе очень рады. И мать не будет тебя стесняться. А насчет Нади... — тут Агзамский весело рассмеялся. — Она, милый мой, уже давно замужем за одним физкультурником, и говорят, что у нее растет могучий потомок. Вот какая история!
— Нет, нет, никак не могу остановиться у вас. Сегодня перед конференцией я должен увидеться с Хасаном из Аккуяна.
— И слушать не хочу! — объявил Агзамский. — Остановишься у нас. Вопрос решенный. Понятно?
Вскоре тарантас завернул в переулок и остановился возле двухэтажного дома.
Мать Галляма действительно не стеснялась проявлять свою любовь к сыну. Маленькая, по плечо ему, она так крепко его обняла, будто хотела целиком скрыть в своих объятиях. Она похлопывала сына по спине, отчего из- под руки ее взлетали облачка дорожной пыли. Частицу переполняющей ее материнской любви она уделила даже Салиху, ласково обняв его. Агзамский подмигнул Салиху, словно напоминая дорожный разговор: дескать, видал, какая у меня мать! Вскоре пришел с работы отец Агзамского — Садрый-бабай, типограф. Отец и сын мало походили друг на друга, только в глазах и в очертаниях рта можно было заметить некоторое сходство. Старый наборщик был низкого роста, широкоплечий, немного сутуловатый. Увидев сына, Садрый- бабай повел себя иначе, чем жена: не только не стал его обнимать, а наоборот, счел своим родительским долгом немного поворчать:
— Что у тебя, рука, что ли, отсохла, не мог дать телеграмму о своем приезде? Мать приготовилась бы...
Агзамский стал оправдываться:
— Я ведь не в гости приехал, отец, а совсем. Так что не нужно никакого особенного угощения.
— А товарищ твой? Он-то, во всяком случае, гость! Мать убралась бы, я аванс бы взял. Как раз сегодня спрашивал о тебе директор. Завтра в нашу типографию привозят линотип. Вот директор и говорит: «Если бы здесь был твой сын, я обязательно посадил бы его к этой машине». Я ему отвечаю: «Куда там! Мой сын стал теперь комиссаром. Еще пойдет ли он на эту работу?» Директор смеется.
— Никогда я не был комиссаром, отец, — сказал Галлям.
— А у машины все же работать не будешь?
— Да я бы не прочь. Только еще не знаю, зачем меня вызвали в обком, — может, снова куда-нибудь пошлют.
После чая Салих сказал Агзамскому:
— Ты оставайся с родными, а я пойду поброжу по городу. Если долго меня не будет, не ждите.
Салих медленно шагал по улицам, удивляясь тому, как город вырос за эти годы. Внимание его привлекли большие новые дома, они напоминали спичечные коробки и не понравились Салиху. «Возможно, — подумал он, — экономили средства или торопились строить. А может быть, так оно и нужно, и у меня просто отсталый вкус, и всякого рода колонны, украшения ни к чему. Нет, скорее всего, они построены в спешке».
Большое впечатление произвел на Салиха городской парк. Еще не так давно здесь стояли, утопая в непролазной грязи, ларьки и лавчонки, а теперь разбит роскошный сад.
Посреди сада на высоком постаменте стоит мраморный памятник Ленину. Подойдя к нему, Салих замедлил шаги, как бы боясь помешать думам великого человека.
Во всем здесь чувствовалась заботливая, умелая рука. Нельзя пройти мимо такого парка, не заглянув в него, а зайдя — не хочется уходить. Акации скрывают железную изгородь, густые ветви лип и кленов как будто приветствуют гуляющих. Цветы на клумбах и окаймляющая их бархатистая трава выращены не только садовником — о них заботятся все жители города. Вся Уфа бережет этот сад: ни одна нога не ступит на клумбу, никто и не подумает сорвать с клумбы хотя бы один из бесчисленных цветов, сияющих всеми красками радуги. Сколько детей играет в этом саду! Для ребенка естественно желание сорвать красивый цветок, но здесь никто из детей даже не просит об этом, благоговение перед великим человеком, памятник которого окружен цветами, сказывается и в этом отношении к саду.
О смерти Ленина Салих узнал в этом городе. Сейчас он вспомнил тот день, когда весь мир погрузился в траур. В глубоком раздумье он вышел из сада и долго бродил по улицам, взволнованный этим посещением.
Незаметно он дошел до техникума, где учился. Во дворе группа юношей была увлечена какой-то игрой. «Наверное, первокурсники», — подумал Салих. Давно ли он сам был таким же, как они?
Салих вошел во двор.
— Вы с какого курса? — обратился он к ребятам.
— С первого.
— А студентов третьего курса знаете?
— Знаем.
— Кого же?
— Всех знаем.
— Искандера знаете?
— Знаем.
— А Надршина?
— Знаем.
— Зайтуну? Нигмата? Файзуллину?
— Знаем.
«Ну, если они всех знают, то должны знать и Корбанбикә», — подумал Салих.
— А Корбанбикә знаете?
— Корбанбикә? — переспросили студенты и переглянулись. — Нет, не знаем.
— Как же вы говорите, что всех знаете?
— Такой здесь нет.
— Как нет? Корбанбикә Аллагуловой?
— Нет такой.
— А вы не ошибаетесь?
— Нет, я вчера сам переписывал список студентов третьего курса, — сказал один из ребят, — такой там нет.
— Возможно, что она на втором курсе.
— Нет, агай, нет. Такой нет ни на первом, ни на втором, ни на третьем. Ведь мы же знаем всех до одного.
Салиху почему-то расхотелось заходить в помещение. Конечно, он обязательно зайдет сюда завтра. Здесь же его лучшие друзья Надршин, Искандер, Нигмат... А сегодня еще надо повидать Хасана.
«Но что случилось с Корбанбикә?
2 Во время заседания в зал конференции вошел Агзамский, разыскал глазами Салиха и Хасана и подсел к ним.
— Ну, товарищи комсомольцы, — шепотом спросил он, — как ваша конференция?
Хасан делал отметки в блокноте, стараясь ничего не пропустить из доклада, чтобы по возвращении подробно рассказать обо всем. Салих тоже слушал внимательно, но все же, повернувшись, ответил Агзамскому:
— Очень уж ты задаешься с тех пор, как перешел на партийную работу!
— Что ты, что ты! — чуть не обиделся Агзамский. — Комсомол очень близок моему сердцу, потому я и пришел на конференцию.
Докладчик критиковал комсомольские организации на местах за слабую связь с несоюзной молодежью, за недостаточную помощь местным советам. И Агзамскому, и Хасану, и Салиху все это было хорошо знакомо, как будто докладчик говорил о них самих.
Докладчик сказал о той большой пользе, которую принесли деревне приехавшие из города комсомольцы, рабочие предприятий. В этом месте Салих толкнул Агзамского локтем: дескать, о тебе говорят. Дальше оратор затронул вопросы учебы. «Чтобы строить, надо знать, надо овладеть наукой. А чтобы знать, надо учиться. Учиться упорно, терпеливо», — привел он слова товарища Сталина.
Хасан написал записку в президиум с просьбой дать ему слово, но, прежде чем послать, посоветовался с друзьями — те одобрили. Аг* замский, опасаясь, что Хасан раздумает, быстро взял у него листок и передал впереди сидящему, тот — следующему. Записка, переходя из рук в руки, дошла, наконец, до президиума, и когда Хасан увидел, как председатель развернул записку и занес его имя в список выступающих, сердце его учащенно забилось. «Только бы не первым!» — заволновался он.
За три года он немало выступал с речами и докладами — и у себя в деревне, и в волости, даже в кантоне, но перед такой большой аудиторией ему говорить еще не приходилось. А сказать ему было что, — столько мыслей, фактов, вопросов, что он даже не представлял себе, как уложится в регламент. Ведь он варился в работе, о которой говорил докладчик, это была его жизнь! Но как все связать вместе, ничего не упустит!, и не запутаться, сказать все веско и убедительно — вот задача!
Во время перерыва Агзамский торжественно объявил товарищам:
— Могу сообщить вам новость. Меня командируют в Москву, на учебу, в Коммунистический университет трудящихся Востока. Понятно?
Товарищи поздравили Галляма.
— Тебе завидно, а? — спросил Агзамский Салиха.
— Я очень рад за тебя, но не скрою — в самом деле немножко завидно.
У Хасана уже был составлен план своего выступления, Агзамский деловито пробежал конспект, изменил порядок вопросов, кое-что сократил и вернул Хасану.
— Ну вот, — сказал он, — можешь смело выступать. Я хоть спешу, останусь тебя послушать. Главное, не робей. Как только ты кончишь, двое в зале будут хлопать громче всех — это будем мы.
Вернувшись в зал, они сели уже не в середине, как прежде, а с краю, чтоб Хасану удобнее было выйти к трибуне.
Дав слово оратору, председатель сказал:
— Приготовиться Хасану Латыпову.
Пока оратор выступал, Хасан беспокойно ерзал на стуле, перебирал листочки с тезисами, в страхе, что он уже все позабыл. Председатель назвал его фамилию, Хасан быстро вскочил с места и вышел на трибуну. Начало речи он скомкал, но вскоре оправился и стал говорить увереннее и смелее, поддерживаемый вниманием аудитории. Сказал, что деревня, где он работает, находится в отдаленном районе Башкирии и что обком комсомола, судя по всему, связан больше с близлежащими селами, а работой дальних пунктов руководит слабо.
— Правильно! — раздался возглас из зала. Коснувшись далее воспитательной работы среди молодежи, Хасан заявил, что кое-кто из работников недооценивает роли искусства, например, живописи.
Агзамский насторожился, ожидая камня в свой огород. И в самом деле, Хасан назвал имя Салиха Ягфарова, который проявил себя как способный художник, чего недооценил и к чему вначале отнесся равнодушно секретарь канткома комсомола Агзамский.
— Товарищ Агзамский принес нам большую пользу, он укрепил влияние пролетариата на крестьянскую молодежь. Авторитет его в нашем кантоне очень высок и среди молодежи, и среди взрослых. И вот даже он чуть было не потушил того огонька, который был в комсомольце Ягфарове. Секретарь канткома партии товарищ Казаков во-время поправил Агзамского, и теперь могу сообщить вам, товарищи, что Салих Ягфаров приехал в Уфу учиться в художественном техникуме и сейчас он находится в этом зале.
Раздались аплодисменты.
Хасан сел на свое место, и Салих с Агзам- ским стали пожимать ему руки.
— И меня прохватил. Правильно! — похвалил Агзамский.
В этот момент какая-то девушка передала Хасану записку. Он собирался было передать ее дальше, в президиум, но во-время обратил внимание на надпись: она была адресована Салиху.
— Тебе, — сказал он.
— Ого! — воскликнул Агзамский. — Наш Салих начал уже получать письма от девушек.
И все потому, что Хасан назвал его художником.
Салих развернул записку и, удивленный, передал ее Хасану и Агзамскому, те прочли:
«Я хлопал товарищу Латыпову в благодарность за сообщение о твоем приезде на учебу.
Н. А к м а н л ы».
— Это же поэт Акманлы! — воскликнул Агзамский.
— Ты с ним знаком? — удивился Хасан.
— Даже не видел никогда, — развел руками Салих.
— «Рыбак рыбака видит издалека», — говорит русская пословица, а поэт не упускает из виду художника, — объяснил появление записки Агзамский.
Во время перерыва Салих встретил в коридоре своего старого школьного товарища Надршина; они бросились друг другу в объятья. Надршин изменился за это время, похудел. Но шевелюра его была такая же пышная, как прежде, и он тем же знакомым свободным жестом закидывал ее назад. На нем была черная бархатная тужурка, из-под которой выглядывал белоснежный воротник, серые в черную полоску брюки, на ногах желтые щегольские штиблеты, на руке поблескивали часы.
— А ты изменился, Надршин, на артиста стал похож.
— Пойдем, Салих, поговорим, пока не начался концерт. Если ты не против, выйдем в садик, разопьем бутылку пивка.
Салих поискал глазами Агзамского и Хасана, но их нигде не было видно, и они направились с Надршиным в сквер.
Надршин радостно говорил Салиху:
— Если бы ты знал, как я обрадовался, когда выступающий товарищ сказал, что ты приехал в город учиться! Я все ладони отбил, хлопая ему.
— Кстати, об этом же написал мне в записке поэт Акманлы, а я с ним даже не знаком.
— Хочешь, познакомлю?
— Конечно, хочу. Кому неохота познакомиться с поэтом, да еще с нашим, комсомольским!
Надршин поднялся с места, выпрямился и, поклонившись Салиху, сказал официальным тоном:
— Разрешите представиться: поэт Надршин — Акманлы Сабит, сын Губая.
Салих вскочил.
— Вот как! Так это ты? А я мог бы умереть, так и не узнав об этом. Как я рад! Честное слово, я люблю твои стихи, многие знаю наизусть!
На радостях они распили еще одну бутылку.
— А теперь, — сказал Акманлы-Надр- шин, — пойдем за кулисы. Рауза, должно быть, заждалась тебя.
— Какая Рауза? Твоя жена?
— Я говорю о твоей Раузе, Раузе Гулиной. Если я не ошибаюсь, вы были влюблены друг в друга... Она часто тебя вспоминала. А если теперь услышала, что ты приехал...
— Постон! Я даже по слышал такой фамилии...
Акманлы расхохотался.
— Да ты что, смеешься надо мной? Разве вы не переписывались?
— С кем?
— С Раузой. Ну, Корбанбикә Аллагулову ты помнишь?
— Корбанбикә? — оживился Салих. — Я сегодня заходил в техникум, спрашивал обо всех вас, только ее никто не знает.
— Неудивительно! Ведь Корбанбикә Алла- гулова переменила имя и фамилию и стала теперь Раузой Гулиной.
Салиху стало жарко. Он неотступно думал о Корбанбикә, уже боялся, что потерял ее след навсегда, — и оказалось, что она в двух шагах от него.
Акманлы между тем объяснял:
— У нас тут поветрие было менять фамилии, особенно те, которые связаны с религией, с проклятым прошлым. Корбанбикә написала заявление, что она дочь свободной Советской страны и не хочет носить имя, в котором корбан означает рабство, а бикэ — барыня, и фамилию, которая образована от слов алла колы, что означает — раб божий. Мы разобрали ее заявление на собрании, согласились с ней и переменили ей имя и фамилию. Теперь Корбанбикә Аллагуловой уже нет больше на свете, а есть Рауза Гулина, которая любит тебя еще крепче, чем Корбанбикә.
Пока они пробирались по длинным и темным коридорам за сцену, Акманлы сообщил Салиху, что у Раузы оказался хороший голос, она часто выступает, и сегодня участвует в концерте в честь делегатов конференции.
В комнате, куда они попали, было полно народу — девушки в пушистых юбках, похожие на белых лебедей, другие в старинных башкирских костюмах; физкультурники в одних трусиках и майках, щеголяющие своими мускулами; музыканты, настраивающие скрипки и мандолины.
Салих здесь никого не знал, зато Акманлы запросто со всеми здоровался, как со старыми знакомыми. Незаметно он подвел Салиха к девушке, сидевшей в стороне. От неожиданности Салих покраснел до ушей. Перед ним была Корбанбикә.
— Пропащий ты человек, — начала Рауза довольно бойко, но тут же отвернулась, смутившись, и покраснела.
Так они стояли, боясь взглянуть друг на друга, стесняясь людей, которые искоса поглядывали на них, хотя и старались не показать виду, что обращают на них внимание. Рауза приблизилась к Салиху, взялась за пуговицу пиджака и стояла так, молча глядя ему в глаза. Надршин решил прервать это затянувшееся молчание.
— Что я вижу! — вскричал он. — Разве так встречаются старые друзья? Куда это годится? А ну, извольте немедленно обняться и поцеловаться!
Рауза стала пунцовой.
— Да он уже совсем взрослый, как его обнимешь! — сказала она, окинув Салиха быстрым взглядом и опустив глаза. — А то, что я не подаю руки, на это есть причина. — И, видя озадаченное лицо Салиха, пояснила: — Наши девочки организовали общество «Долой рукопожатие!»...
— Мы забираем Раузу из этого общества, — сказал Акманлы. — Нашла куда вступать! Мы обращаемся к молодежи всего мира с призывом: «Дай руку!» И только капиталистам Англии, Франции и Америки мы заявляем: «Руки прочь от Китая!» Но ни Рауза, ни Салих не слушали горячей речи поэта, — они жали друг другу руки, чувствуя, как это мало выражает волнение, охватившее их обоих. Они смотрели друг на друга, не отрываясь и боясь заговорить, чтоб не засмеяться или не расплакаться.
— О-о! — многозначительно протянул поэт. — Боюсь, что наша артистка лишится сегодня голоса от волнения!
3 Салих пошел в интернат медицинского техникума, где жила его сестра Тазкира. Она встретила его шумно и бойко. Салих со своим уравновешенным характером нашел ее даже легкомысленной. «Никак не может, видно, понять, что она девушка, нравится ей быть девчонкой, сорванцом. Ну что за прическу себе придумала! Спереди на лоб падает прядь волос, ровно срезанных у самых бровей, а на макушке огромный синий бант. Для восьмилетней девочки это в самый раз, а Тазкире, кажется, уже восемнадцать». Так думал Салих, пока Тазкира без умолку болтала, не давая брату слова вымолвить. Когда она сказала, что у нее сейчас горячее время, готовится к зачетам, Салих отправил ее обратно в комнату заниматься, а сам направился к младшей сестре.
Васима, к удивлению Салиха, встретила его иначе. Она стала задумчивой, сосредото- ценной и чем-то напоминала Салиху его самого. Когда Салих поднялся к ней, она стояла на площадке лестницы и перелистывала какой-то журнал. Увидев Салиха, она не запрыгала и не затараторила, как Тазкира, а тихо подошла к нему и сказала с глубоким чувством:
— Брат мой приехал!
И по этим немногим словам видно было, как она ждала его и как часто его вспоминала.
Салих с удовлетворением оглядел комнату, где она жила: аккуратно застланную кровать, чистенький столик со стопкой книг и тетрадей, снимки, открытки и расписание уроков, развешанные над кроватью.
Над столиком висела миниатюрная стенная газета, имевшая даже название «Ялкын»!. Салих догадался, что ее редактор и сотрудник — Васима Ягфарова. Он хоть и с улыбкой, но серьезно принялся читать газету. Васима с беспокойством следила, как отнесется к ее затее брат. Правда, чтение заняло не больше пяти минут. Тут были стихотворения, взятые из областной газеты и, видимо, очень понравившиеся редактору, была статейка о том, как подрались два школьника, и извещение о снижении цен на билеты в кинотеатры. Под одной заметкой была подпись «Урак» (серп), под другой «Колак» (ухо). В отделе редакционной почты заметка под заголовком «Ответ Н. Акманлы» гласила: «Поскольку вы не прислали в газету своих стихов, они напечатаны не будут».
1 Ялтан — пламя.
Салих громко рассмеялся, ему стало приятно за товарища, пользующегося таким успехом у молодежи.
— А ты видела Акманлы?
— Видела один раз. В Октябрьский праздник ставили его пьесу, он выходил на сцену кланяться.
Васима вытащила из сундучка маленький бумажный сверток и смущенно протянула его брату. В свертке оказались две конфетки, пять монпасье, два печенья и один пряник.
— Откуда это? — спросил Салих.
— Я собиралась послать их тебе и поэтому берегла, — смущенно объяснила Васима.
Слезы навернулись на глаза у Салиха, он вспомнил мать, обнял и поцеловал Васиму. «Плохой же я брат, — упрекнул он себя, — не привез гостинцев, а хорошо бы полакомить девочек коротом!, сушеной пастилой или курочкой».
Салих повел Васиму к себе в гостиницу, куда он переехал от Агзамского и где они договорились встретиться с Акманлы.
Поэт уже дожидался Салиха и не один, а с Раузой; она была одета наряднее обычного и даже чуть-чуть подкрасила губы.
— Кто это хорошенькая девочка? — спросила Рауза, когда они поздоровались.
— Моя сестра.
— Ты мне никогда не рассказывал, что у тебя есть сестра, да еще такая красавица.
— И еще есть одна.
— Где же она? Почему ты ее не привел?
— Занята, готовится к зачетам.
1 Корот — самодельный сыр.
Васима во все глаза смотрела на Акманлы, восхищенная и польщенная тем, что знаменитый поэт пожал ей руку. Поэт подошел к окну и, глядя на улицу, принялся нараспев читать стихи башкирских и русских поэтов.
Рауза начала рассказывать о распределении на работу выпускников техникума.
— Меня спросили, — сказала Рауза, — куда я хочу. Я подумала и сказала, что хочу в ваш кантон. Спросили, кто у меня там. Я ответила, что никого нет, кроме одной знакомой, очень хорошей, реки Тук.
Васима громко, по-детски рассмеялась — ей понравилась Рауза.
— А ты, Надршин?
— Меня оставляют в редакции комсомольской газеты. Ты читал сегодняшний номер?
— Нет.
— Напрасно. Там есть заметка про одного нашего общего знакомого, Салиха Ягфарова, и писал заметку тоже один наш общий знакомый.
— Не ты ли?
— Я! — гордо ответил Надршин и, вытащив из кармана газету, стал громко читать ее.
В заметке говорилось о впечатлении, которое произвел на делегатов конференции широкоплечий, черноволосый юноша по имени Хасан Латыпов. Говорилось и о судьбе Салиха Ягфарова, который три года назад вынужден был бросить учебу и вернуться в деревню, «но который, — писалось в заметке, — участвуя в славных делах эпохи, доказал, что нет такого уголка в нашей стране, где нельзя расти».
— Хорошо получилось? — спросил Акманлы, складывая газету.
— Очень! — воскликнула Васима, вся сияя.
— Не знаю, хорошо ли, — заметил Салих, — но вижу, что ты-то, во всяком случае, умеешь делать из мухи слона! Рассыпался крупным горохом! Расписал меня, как куклу!
— Поэт! — кратко пояснила Рауза.
— К тому же, — продолжал Салих, — я вовсе не возвращаюсь в деревню, а остаюсь здесь.
— Здесь? — ахнула Рауза и замолчала.
Надршин понял, что молодым людям нужно остаться наедине и объясниться.
— Я вижу, красавица, — обратился он к Васиме, — что тебе очень жарко. Я тоже задыхаюсь от жары. Пойдем поищем мороженое. Он взял Васиму за руку, и они выскочили из комнаты.
— Поедем вместе, — тихо сказала Рауза, опустив голову.
— Не могу, — так же тихо отвечал Салих. — Лучше ты оставайся здесь.
— Не могу, — ответила Рауза.
И, взглянув друг на друга, рассмеялись.
— Я снова приехал учиться, — сказал Салих. — Ведь я отстал в учебе от своих сверстников и от тебя, Рауза. Мне нужно много, много знать. Я должен остаться в городе.
— Верно, — согласилась девушка. — Но и я уже не прежняя девочка. Я учительница, комсомолка. Три года меня учили, кормили, одевали, — должна я рассчитаться за все это? Да и сама я хочу скорее работать.
— Верно, — согласился Салих.
Они помолчали.
— Я буду писать тебе, — сказал Салих.
— Раз в год? — Рауза тихо рассмеялась. Салих взял ее за руку и подвел к окну.
— Я стеснялся писать тебе тогда по мальчишеству. А ты тоже редко отвечала на мои письма, даже не известила, что переменила фамилию. Мы стеснялись нашего чувства, даже не понимали его, — ведь мы были совсем дети. Теперь мы взрослые, встретились после трех лет разлуки и убедились, что наше чувство выросло и окрепло. И мы никогда не расстанемся. Правда?
— Правда, — прошептала Рауза.
Салих обнял ее. Так они стояли, тесно прижавшись, словно хотели вместить в этом объятии три года разлуки. Рауза вырвалась из его объятий и отбежала в угол, плечи у нее дрожали. Салих подошел к ней и увидел, что она плачет.
— Рауза, — только и мог сказать Салих.
Девушка взглянула на него, прижала свои ладони к его щекам и вдруг стремительно поцеловала.
Они ничего не говорили о своих чувствах, но хорошо понимали друг друга.
— Я поеду в твою деревню, буду работать с людьми, с которыми ты работал, буду купаться в реке, в которой ты купался, будто ты и не уезжал.
— А я здесь пройду те ступени, которые ты успела пройти, чтобы догнать тебя.
— Как? И только тогда мы встретимся? — испугалась Рауза.
— Нет, значительно раньше. Я приеду к тебе в гости. И мы пойдем вместе к реке Тук.
Вошла Васима с огромным яблоком в руках, за ней Акманлы. Васима кинулась к брату, но по дороге ее перехватила Рауза и усадила рядом с собой. Салих взглянул на них, и что-то глубоко взволновало его при виде склонившихся друг к другу девичьих головок: у него возникла мысль о картине, которую можно было бы назвать «Сестры», или «Радость».
— Значит, ты решил поступить в художественный техникум? — спросил Акманлы.
— Да, — ответил Салих.
— Правильно!
— Боюсь только, что неловко буду чувствовать себя, совсем взрослый среди подростков. Ничего не поделаешь, придется мне пройти расстояние, отделяющее меня от вас, друзья. Я вот и Раузе об этом говорил.
— А она как на это смотрит?
— Правильно смотрит, — ответил Салих.
Вчетвером они вышли на улицу. В этот момент у ворот остановилась пролетка и из нее выскочил Агзамский.
— Привет Ягфарову и его друзьям!
— Ты куда? — спросил Салих.
— На вокзал.
— Как? Уезжаешь?
— Уезжаю. Сейчас в Пятигорск, отдохнуть, а оттуда в Москву.
— Знакомьтесь, — сказал Салих. — Наш секретарь канткома комсомола Агзамский.
— С этой шустрой девочкой я давно знаком, — сказал Агзамский, взъерошив волосы Васимы. — И вас знаю по стихам, — обратился он к Акманлы, — а вот вас... где-то встречал, да не помню только, где.
— У меня дома, на портрете, — улыбнулся Салих.
— Как же! — воскликнул Агзамский. -* Вспомнил! Только я почему-то думал, что у той девушки другое имя... Значит, ты познакомил меня с ней под другим именем. Будем же знакомы по-настоящему. Я бывший начальник этого молодого человека, Галлям Агзамский. Кстати, Салих! Не забудь побывать у старика Казакова в обкоме партии. Он спрашивал про тебя. Он любил нас, особенно тебя. Ну, прощайте, ребята, я тороплюсь.
И, вскочив в пролетку, Агзамский поехал дальше, помахав на прощание рукой.
— Хороший товарищ! — сказал ему вслед Салих. — Два года работали вместе, много доброго он сделал для меня, многому научил. А я так сухо с ним попрощался!
— А мы успеем его еще раз повидать, поедем на вокзал, — предложила Рауза.
Акманлы торопился в редакцию. Он распрощался. Васима побежала домой, а Салих с Раузой подозвали извозчика и помчались на вокзал.
4 Салих с головой окунулся в учебную жизнь. Он сблизился со студентами старших курсов, более близкими ему по возрасту. Среди последних были пейзажисты, портретисты, графики, декораторы, карикатуристы, плакатисты, — каждый горячо отстаивал свой жанр, считая его наиболее передовым. Салих много думал, к какому же жанру он сам больше склонен, как ему найти себя в искусстве. До этого ему приходилось писать и плакаты, и декорации, и пейзажи, и портреты. Теперь же пришло время выбрать из всех родов искусства один. «Должен же быть у меня свой голос, — убеждал он себя, — своя кисть». Советовался и с Акманлы.
— Я, например, прежде всего оратор, — объяснил Акманлы. — Когда я пишу стихи, то вижу перед собой аудиторию, перед которой я буду выступать с трибуны. И тебе так советую думать.
Кроме выбора жанра, Салиха волновало еще множество других неразрешимых вопросов.
Избранный секретарем комсомольской ячейки, Салих принимал участие в заседаниях педагогического совета. Среди преподавателей, кроме учителей по общеобразовательным предметам, были педагоги-художники. Они часто спорили и даже ссорились между собой. Одни называли себя футуристами, другие — импрессионистами, третьи — кубистами.
Салих считал, что хотя он всего-навсего первокурсник, но должен иметь в этих вопросах определенное мнение.
«Кто бы помог мне разобраться в этих делах?» — думал он.
Директор техникума, Харис Абулесов, человек всеми уважаемый, старый педагог, по специальности историк, в вопросах искусства, как он сам выражался, «ходил пешком» и мало вмешивался в распри художников, больше слушал. Внимание Салиха привлек старый художник Владимир Иванович Сухов.
Длинноволосый, в широкополой соломенной шляпе, которую он носил до поздней осени, в костюме, свободно облегавшем его крупную фигуру, неторопливый и спокойный, он производил внушительное впечатление, Салиху нравилось, что во время жарких схваток между футуристами и кубистами Сухов молчал, но глаза его смеялись. О нем рассказывали, что он исколесил вдоль и поперек всю Башкирию, бывшие Уфимскую и Оренбургскую губернии, прекрасно изучил их природу, а пейзажи его были известны далеко за пределами республики. Салих искал случая поговорить с ним.
Однажды в морозный день, проходя через парк, Салих увидел Владимира Ивановича, сидящего на скамейке. Сидеть в такой холод на открытом воздухе да еще, судя по всему, испытывать удовольствие — это казалось настолько странным, что Салих подошел к художнику и попросил разрешения сесть рядом. Долго он не знал, с чего ему начать, но Сухов заговорил сам:
— Я вот о чем думаю: обратите внимание... как ваша фамилия?
— Ягфаров.
— Обратите внимание, Ягфаров, вон на тот уголок парка. Видите?
— Да.
— Если зарисовать его, то можно захватить угол того белого здания, вон те две ели — и, пожалуй, все... Другие деревья и будка ни к чему. Впрочем, деревянный забор с колючей проволокой над ним я, пожалуй, тоже бы прихватил. Все это легко сделать... А в чем главная трудность? А? — И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Главная трудность в том, как передать холод. Вот такой холод, как сейчас, чтоб зябко становилось, когда смотришь на картину.
— Разве можно передать холод?
— Нужно передать. Иначе это будет простая фотография. Вам случалось видеть картину Левитана «Март»? Помните, как хорошо там передан весенний мартовский воздух. Так и чувствуешь, как тает снег. Или же его картина «Закат солнца» — удивительно передана вечерняя прохлада в летний день. Обратите внимание, какая сложная задача. И он ее решил: в самый жаркий день, глядя на эту картину, вдыхаешь полной грудью прохладу. Левитан знал русскую природу, ее тонкости, — ведь в русской зиме, в русском лете, весне и осени есть особенная красота, какой не найдешь в другой стране... Я включил бы, повторяю, в картину колючую проволоку. С помощью железа и в особенности этих колючек можно передать зимнюю стужу. Конечно, можно изобразить озябшего человека или мертвого воробья, но это было бы плоско. Все равно что под картиной, изображающей лошадь, подписать «лошадь», чтобы ее не спутали с ослом.
— А зачем нужна такая картина? — робко спросил Салих.
Ему казалось, что Сухов рассердится, услышав этот вопрос, и вовсе замолчит, а то еще поднимется и уйдет.
Но художник внимательно взглянул на Салиха и ответил:
— Зачем? Ведь это природа нашей родины, мы должны ее любить и изучать. Разве не верно?
— Верно.
— Наша природа удивительно разнообразна, нужно уметь видеть ее красоту, уметь изобразить ес.
— Я, может быть, плохо разбираюсь, — тихо снова заговорил Салих, — но я не вижу прелести в картине, которую вы хотите изобразить.
— Значит, я вас не убедил. А художник должен быть убедительным. Впрочем, я рассказал словами, а моя сила — в кисти!
Вернувшись в общежитие, Салих долго обдумывал этот разговор с Суховым. Он сделал по памяти несколько набросков пейзажа, который очаровал старика Сухова, но не испытывал воодушевления. Может быть, Салих не понимает красоты природы, красоты зимы? И не лучше ли, вместо того чтобы спорить, послушаться старого художника и взглянуть на природу его глазами? Салих вспомнил зимний Аккуян, картину, которая на всю жизнь врезалась в его памяти, когда они с Хасаном выскочили после спектакля на улицу. Была лунная зимняя ночь, и бескрайние снежные степи кругом, казалось, прислушивались в глубоком молчании к смеху и песням, доносившимся из ярко освещенного здания школы, где веселилась молодежь. Да, в той картине действительно была красота. А тут — уголок забытого парка! Сухов прав, нужно уметь находить в природе красоту, но только такую красоту, которая сейчас необходима людям, которую они ищут. «Непременно, непременно, — лихорадочно думал Салих, — я сделаю такой пейзаж и покажу его Владимиру Ивановичу; кто знает, может быть, он предпочтет его уголку парка».
Однажды, на очередной городской выставке, Салих остановился перед картиной, изображавшей синих всадников, мчащихся на красных конях по желтому полю. Художник, находившийся тут же, развязно объяснял, что его, как импрессиониста, мало интересует, существуют ли красные лошади в действительности, главное в картине это контраст, контраст синего с красным и красного с желтым, такой контраст не может не остановить даже самого ленивого посетителя.
И в самом деле, люди удивленно останавливались перед картиной, отчего художник поднимал свой птичий нос все выше и выше. Салих пожал плечами и пошел дальше.
Другая картина изображала не то заводскую трубу, не то железнодорожный мост, составленный сплошь из одних геометрических фигур. Художник, прогуливавшийся мимо картины, как мимо клетки зверя, был одет в клетчатый костюм в духе своей картины, и даже речь его была такой же резкой и отрывистой, как линии на картине.
Люди пытались сначала самостоятельно разобраться в том, что перед ними было изображено, а потом, потеряв надежду, осведомлялись у художника, который снисходительно пояснял, что название картины — «Городской пейзаж», и зрители, покачивая головами, осторожно отходили от художника и его картины.
Салих пытался разобраться в этом хаосе. Здоровое чувство жизни протестовало в нем против этих уродств, но авторитет педагогов, ссылка на «имена», ученые слова — все это смущало его. Он посещал дискуссии, которые устраивал комсомольский комитет и профсоюзная организация, вылушивал длинные речи, наблюдал жаркие схватки, но они не вносили ясности в его голову, скорее затуманивали ее.
Салих лежал на кровати в общежитии и вспоминал Агзамского. Вот с кем полезно было бы посоветоваться. Агзамский хоть и не знаток живописи, но сумел бы разобраться в этой путанице.
«Казаков! — вспомнил вдруг Салих. — Как я раньше о нем не подумал! Вот к кому надо пойти!» Салих уже не раз собирался к Казакову, но без определенного дела считал неудобным заходить. Но с этим вопросом пойти можно было и даже следовало.
— Сейчас же пойду, — вслух произнес Салих и, вскочив с кровати, направился к выходу.
— Куда? — остановил его сосед по койке. — Если далеко, то полезно было бы ботинки надеть.
Товарищи рассмеялись. Салих торопливо обулся и выскочил на улицу. Холодный ветер бил ему в лицо, сухой мелкий снег колол лицо тысячами игл, забирался под рукава и за воротник, заставляя идти еще быстрее.
Секретарь Казакова спросил Салиха:
— Может быть, дело не столь спешное?
— Очень спешное и очень важное, — решительно заявил Салих. — Нужен совет самого товарища Казакова. А кроме того, — неожиданно для себя прибавил он, — мы с ним старые друзья.
Секретарь недоверчиво взглянул на юное лицо Салиха, объявившего себя старым другом Казакова, но все же пошел доложить. Вскоре он вернулся и без слов кивнул головой на дверь кабинета.
Два года прошло с тех пор, как Салих видел Казакова. Он заметно постарел, седина захватила большую часть его головы, синие вены на крупных белых руках резко вздулись.
— Садись, друг, — устало улыбаясь, сказал Казаков.
«Секретарь, конечно, успел доложить ему, что я отрекомендовался его другом», — подумал Салих и покраснел.
— Где же ты пропадал? — Казаков по своему обычаю пересел на диван к Салиху. — Забыл старика? Говорят, собираешься стать художником.
— Да, вот учусь...
— И скоро мы увидим твои картины?
Салих вздохнул:
— До картин еще далеко.
— Почему далеко? Ты ведь и раньше, помнится, недурно рисовал.
— По правде сказать, запутался я, Николай Васильевич.
— Что такое? — Казаков наклонил правое ухо к Салиху.
— Никак не разберусь в вопросах искусства! Николай Васильевич, помогите, как бывало.
— Гм! Прежде, в комсомольских делах, я мог тебе помочь. А вот насчет искусства — не знаю, право, как быть! Но ты расскажи, вместе, может, и разберемся как-нибудь.
Салих почувствовал себя спокойнее.
— У нас в техникуме преподает много художников. Да только один объявляет себя футуристом, другой — импрессионистом, третий — кубистом. И каждый тянет в свою сторону. Между собой они дерутся...
— Ay хлопцев чубы трещат?
— Как у меня, например.
— Да... Мы вот с тобой думали, когда в кантоне работали, что только там трудно, а, оказывается, здесь вон какие сложности возникают. Но ведь мы с тобой люди борьбы. И не отступим перед трудностями, верно? Не годится, конечно, решать алгебраические задачи арифметическим способом. Я не художник, а специалистам, как говорится, и книги в руки. Но мы — политики и можем с такой стороны подойти к предмету, что, пожалуй, и у самого специалиста откроются глаза на его же собственное дело. У нас, дружок, есть такой ключ, перед которым не устоит ни один запор.
С этими словами Казаков подошел к книжному шкафу, вынул из него книгу, высоко поднял ее, как бы показывая Салиху ее ценность, и, сев на место, стал перелистывать.
— Вот, пожалуйста, тебе ответ на вопрос, как нужно смотреть на искусство, каким мерилом его оценивать. Слушай:
«...мы должны всегда иметь перед глазами рабочих и крестьян. Ради них мы должны научиться хозяйничать, считать. Это относится также и к области искусства и культуры».
— Кто это писал?
— Владимир Ильич Ленин. Ленин сказал эти слова в беседе с Кларой Цеткин, и она записала для потомства драгоценные мысли Ильича. Слушай дальше:
«Искусство принадлежит народу. Оно должно уходить своими глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс...» Заметь: «глубочайшими корнями в самую толщу широких трудящихся масс».
«Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими». Понятно и любимо, — повторял не спеша Казаков.
«Оно должно объединять чувство, мысль и волю этих масс, подымать их».
— Запомни, Салих. Каждый раз, когда ты будешь оценивать новое произведение, задавай себе этот очень простой и очень глубокий вопрос: объединит ли оно чувство, мысль и волю масс, в состоянии ли оно поднять народ на борьбу, на труд?
Салих стал рассказывать о своем посещении выставки. Он вспомнил забавный эпизод, когда посетители жаловались художнику, что не понимают его картины, и как художник горделиво объявил, что сам он ее понимает, и этого достаточно.
Оба посмеялись.
— Зачем же он выставлял картину? — спросил Казаков.
— Должно быть, и сам-то он не понимает ее! — сказал Салих.
— Как сказать! Он, может, и понимает, да только себя. А людей не понимает, и жизни их не понимает, и не хочет, видно, понять, вот в чем главная беда! И хуже всего, когда некоторые недалекие люди делают вид, что им нравится такое искусство! Они, видишь ли, боятся, чтоб их не обвинили в отсталости.
— Верно, верно! — Салих даже вспыхнул от удовольствия. Казаков попал в самую точку. — У нас в техникуме есть такие среди молодежи и среди педагогов, они восторженно кричат: «Ах, как ново!», «Как неожиданно!», «Как красиво!», а спроси их, что же в этих картинах нового и красивого, они не смогут объяснить.
— Вот послушай-ка еще. Как раз по этому поводу:
«Почему надо преклоняться перед новым, как перед богом, которому надо покориться только потому, что «это ново»? Бессмыслица, сплошная бессмыслица! Здесь — много художественного лицемерия и, конечно, бессознательного почтения к художественной моде, господствующей на Западе».
— Обрати, Салих, внимание на последние слова Владимира Ильича о почтении перед Западом. Это означает, следовательно, и недоверие к собственной оригинальности и вкусу!
Салих взглянул на лицо Казакова, оно показалось ему утомленным. «Задержал я его, да и время позднее», — подумал Салих и поднялся с места.
— Я пойду. Вы устали, Николай Васильевич. Спасибо! Вы мне многое помогли понять. Пищи для размышлений теперь у меня хватит.
— Хорошо, дружок, иди! Если нужно что, приходи, не стесняйся, в любое время и лучше всего прямо домой.
Казаков вырвал листок из блокнота, написал свой адрес и протянул его Салиху. Затем проводил до дверей и крепко обнял на прощанье.
5 Однажды Салиха вызвала из комнаты сторожиха и сказала, что внизу его дожидается какой-то посетитель. Накинув пиджак, Салих сбежал вниз по лестнице и увидел человека, который, стоя спиной к двери, читал объявления. Услышав шаги Салиха, он оглянулся. Это был Фарук. Он очень изменился, похудел, пальто болталось на нем, как чужое. Лицо осунулось, под глазами висели мешки. Обычно аккуратный и даже франтоватый, на этот раз он был одет неопрятно: обувь и полы пальто забрызганы грязью, шляпа помята. В сердце Салиха шевельнулось нечто вроде жалости.
— Одевайся и пойдем, — сказал Фарук, — мне надо поговорить с тобой.
И повернул к выходу. Салих заметил, что затылок у Фарука оброс, волосы торчали в разные стороны, как хвостик утки, шея была грязная. «С ним что-то случилось», — подумал Салих.
— Давно из кантона? — спросил он Фарука, когда они прошли несколько шагов.
— Давно! — и, словно подкрепляя свой ответ печатью, Фарук с размаху ступил ногой в лужу, шумно разбрызгав грязь.
Они долго кружили по каким-то переулкам, пока не вышли к желтому двухэтажному дому.
Встретила их вечно улыбающаяся Нафисэ; она тоже, пожалуй, похудела и осунулась, но была по-прежнему веселой и приветливой, платье на ней было выглажено, волосы завиты.
Видно, появление Салиха было для нее полной неожиданностью, — она вопросительно взглянула на мужа.
— Ив таком виде ты ходил по городу?! — всплеснула она руками. — Я ведь сказала тебе, чтоб ты почистился и побрился. Не слушает он меня! — пожаловалась она Салиху, кокетничая.
Она стала суетиться, соображая на ходу, как ей воспользоваться приходом Салиха. Как- никак Салих был полезный для них человек, и знакомство с ним могло пригодиться. «Если он для этого и привел Салиха, — думала она, — то почему же не предупредил меня?» — Я сейчас! — воскликнула Нафисэ и, сорвав со стола скатерть, убежала.
Салих стал разглядывать комнату. Очень маленькая, она была тесно заставлена мебелью. Великолепная кровать с целой горой подушек и одеял. Шкаф, полный хрусталя и фарфора. Комод со множеством флакончиков, ларчиков, пудрениц и прочих диковинных принадлежностей туалета. На стенах картины в богатых рамах, ковры, оленьи рога — все это лезло со всех сторон, наступало на людей и теснило их. «Если привести сюда верблюда, что бы было?» — подумал Салих.
Нафисэ скоро вернулась со свежей скатертью, накрыла ею стол, вынула из шкафа хлеб, масло, мясо и бутылку вина.
В это время из-за бархатных портьер, скрывавших дверь, выпорхнули две девицы. У одной волосы были черные, как смола, у другой красные, как огонь. Нафисэ представила их Салиху и сказала:
— Вы, девушки, побудьте пока у себя, мы здесь поговорим, а после я позову вас. Не скучать же нашему молодому человеку со мной и Фаруком.
Девушки скрылись без слов. Похоже было на то, как рыбак показывает из сумки окуня, чтоб подразнить и поманить, и прячет его обратно.
Разговор не клеился, Фарук был почему-то мрачен. Со слов Нафисэ Салих понял, что в кантисполкоме Фарук уже не работает, его «освободили», как деликатно выразилась она, а прокурор и судья «продались врагам» и возвели на Фарука тьму обвинений. Предвидя неприятности, Нафисэ перебралась в город, а Фарук в поисках работы побывал в Ташкенте и Оренбурге, но тамошний климат оказался для него «вредным», и они решили поселиться в Уфе. Нафисэ не удержалась от колкостей па адресу мужа, который не умеет как следует устроиться, не слушает ее и вообще на женщин смотрит по старинке, «как наши отцы и деды смотрели».
— Неправда! Наш отец не так смотрел, как твой, — оборвал ее Фарук.
Салиху хотелось сказать брату, что за много лет он впервые слышит от него правду, но промолчал.
Нафисэ, которая во всех случаях жизни сохраняла присущую ей улыбку, на этот раз не выдержала. Чашка задрожала в ее руке.
— Мой отец хоть и стар, но не тряпка. Он признал свои заблуждения, отказался от сана и стал учителем...
— Когда ему наступили на хвост, — насмешливо заметил Фарук.
Ноздри у Нафисэ раздулись от гнева. Ее возмутило, что Фарук сказал это в присутствии Салиха.
Салих отодвинул от себя недопитую чашку и встал с места. — Я не хочу выслушивать ваши препирательства. Тебе, тетя Нафисэ, скажу только вот что: не путай, пожалуйста, моего отца со своим папашей. Мой отец боролся за советскую власть и погиб от руки врага, а твой отец — перекрасившийся мулла. А тебе, брат Фарук, открою один секрет: из револьвера, который отняли у нашего отца, хотели убить меня, его сына. Классовый враг не бросил оружия, с которым он выступал против наших отцов. Вспомни отца, вспомни, чей ты сын, не срами больше нашего имени, опомнись, пока не поздно.
С этими словами Салих повернулся и, пробравшись между стульями и шкафами, вышел.
Во дворе он подумал было вернуться, вспомнив про донос, который на него написала Нафисэ, и сказать ей, что ему об этом известно. Но тут же махнул рукой. «Как будто это что-нибудь изменит», — подумал он.
Сзади раздался чей-то смех. Обернувшись, он увидел девиц, с которыми его познакомила Нафисэ.
— Здравствуйте, — жеманно сказала брюнетка.
— Я здоров, — ответил Салих, ожидая, что они еще скажут.
— А мы вас знаем, — сказала рыжая, играя глазами.
Каждой из них было лет по двадцать пять, они говорили по-башкирски, походили на башкирок, но казались Салиху прибывшими из какого-то далекого, чужого мира.
— Вы друг поэта Акманлы?
— Допустим.
— Вы были вместе с ним в театре?
— Что еще скажете?
— Вот и все.
Сказать им действительно было больше нечего.
Они одновременно засмеялись. Салих пожал плечами и ушел.
Выйдя на улицу, он вздохнул полной грудью: эта мебель, эти люди, разговоры давили его там. «Даже брату, — подумал он, — противно, недаром его оскорбило упоминание Нафисэ об отце. А у кого это они живут, интересно? Должно быть, родственники Нафисэ, сразу видно, одного поля ягода. Потеснили его, он и собрал всю мебель в одной комнате. Да! А зачем они меня позвали? Не для того же, чтоб накормить бутербродами и познакомить с этими дурами?» В общежитии Салих заметил, что подушка его сдвинута в сторону. Он приподнял ее и увидел письмо. «Рауза!» — обрадовался он, узнав знакомый почерк. У Раузы была привычка рисовать узоры по краям конверта, а буквы писать двойными и тройными линиями.
Салих осторожно вскрыл конверт, чтоб не задеть письма. Оно было написано на обеих страницах тетрадного листа.
«Салих! Очень хочу тебя видеть, говорить с тобой, смотреть в твои черные глаза. Ты, конечно, вспоминаешь меня реже. Как же! То концерт, то театр, то еще что-нибудь. Сегодня я могу написать тебе большое и подробное письмо: школьников распустили на каникулы, и я свободна. Гильман-агай сделал доклад на прощанье. Милые ребятки, они удивительно терпеливы. Ты ведь помнишь, как наш дорогой хальфа любит длинные речи. Но дети слушали его внимательно, и приятно было смотреть на их маленькие носики и круглые щечки. И даже когда Гильман кончил, они не хотели расходиться. А потом окружили меня и наперебой кричали: «Апа, приходите к нам на каникулы!» Я полюбила твою деревню, Салих. Вчера проходила мимо вашего дома, от него остался один фундамент — белые камни, да и те понемногу растаскивают. Двор густо зарос травой.
Я очень подружилась с Миньямал, — у нее с Хасаном растет чудный мальчик, кругленький и черненький, зовут его Виль. Мне доставляет удовольствие возиться с ним. Хасан много работает и пользуется большим авторитетом, его у нас называют «маленький Хаким». Вчера мы долго сидели с Миньямал в сельсовете, — она подшивала бумаги, а я заполняла свидетельства об окончании школы, — заговорили о тебе. Конечно, я навела на этот разговор. Все хотят тебя видеть, и больше всех ты сам понимаешь, кто. Что еще тебе написать? Передала твой привет Халькесу-бабаю. Хороший он старик! Меня называет «лохматая», а про тебя говорит: «Скорей бы приезжал — у меня есть к нему сто вопросов». Все шлют тебе приветы. Гильман-агай просил передать, что он бережет твой рисунок с изображением серпа и молота. По его просьбе Сулей- ман-бабай наклеил рисунок па фанеру и вырезал его. Передай привет Акманлы, скажи ему, что один наш ученик, по имени Хисмет, хорошо читает его стихи «Куда мчатся годы». Не забудь поцеловать от меня Тазкиру и Васиму.
Скажи им, что я по ним соскучилась и что их подруги часто вспоминают их.
До свиданья, башкирин.
Твоя татарка Рауз а».
По краям письма было приписано очень мелким почерком: «В Уфу приехать не смогу — должна побывать в своей деревне, она недалеко от города, и ты в июне можешь туда приехать».
Салих знал, что это еще не все, заглянул в конверт. На внутренней стороне конверта было написано: «Не слишком дружи с Акманлы: он любит кружить девушкам головы и еще тебя на это подобьет. Смотри, если узнаю, не сдобровать тебе».
Салих дважды прочел письмо, приписки и положил конверт во внутренний карман.
«Какой бы найти предлог, — подумал он, — чтоб поехать в деревню, где живут родители Раузы? А не лучше ли вызвать ее в город? Да что тут гадать, вот скоро сдам экзамены, там будет видно».
6 Но Салиху не пришлось в то лето поехать в деревню к Раузе.
А на следующий год он окончил техникум и ждал распределения. Все выпускники техникума получили звания художников и были направлены в разные места. Одни отправились в качестве преподавателей, другие — на работу в театры, некоторые уезжали в Москву и Ленинград для продолжения образования. Словом, все были распределены и устроены, кроме одного Салиха. Прошли все сроки, а он не получал назначения, недоумевая по поводу такой задержки. На курсе он считался лучшим студентом, преподаватели выделяли его. Но заявление с просьбой назначить на работу до сих пор почему-то не рассматривали. Уже выпускников, получивших назначения, попросили освободить общежитие, так как предстоял ремонт. А к Салиху зашел директор Абуле- сов и сказал довольно загадочно:
— Эта комната, пожалуй, для тебя одного велика. Не лучше ли перевести сюда библиотеку, а в ее помещении устроить тебя? Там тебе, думаю, будет удобнее: и окна не выходят на улицу, и не так шумно. Перед комнатой есть даже что-то вроде кухни, сможешь взять и сестру к себе.
Салих не понимал, чем вызвана эта забота о нем, однако спросить постеснялся.
Сегодня Салих занялся своим «хозяйством» — разложил эскизы и наброски и стал разбирать их. Он давно уже обдумывал картину, изображающую встречу Раузы и Васимы в гостинице. Замысел его еще не вполне оформился, но он уже знал, что расскажет в своей картине о радости жизни, которой полна наша молодежь. «Пусть сюжет картины, на первый взгляд, несложен, — думал Салих, — но он должен быть проникнут большой, жизнеутверждающей мыслью».
Размышления Салиха были прерваны приходом директора. Он еще раз окинул взглядом комнату, зачем-то потрогал ногой доски пола и неожиданно предложил Салиху поехать с ним. Он пояснил, что техникуму рекомендуют общежитие и что надо осмотреть его и решить, снимать его или нет.
— Но я в этом деле ничего не понимаю, — возразил Салих.
— Как не понимаешь? Ты в техникуме три года провел и лучше других знаешь нужды студентов.
Дом на улице Гоголя, куда они приехали вместе с завхозом и директором техникума, был выстроен очень удобно: окна обращены к солнцу, комнаты хорошо расположены. Но обветшал он порядочно — половицы оторваны, оконные рамы требовали замены. Салих постарался оценить дом с точки зрения хозяйственника, так, как оценивали его директор и завхоз. Он поделился своими соображениями. Директор слушал внимательно, одобрительно кивая головой: «Так... так... конечно...» Завхоз молчал, он даже не дослушал Салиха до конца, отошел в сторону и принялся измерять комнату. «Да что он может посоветовать? — думал про себя завхоз. — Он только и ждет, чтоб плод поспел да в рот упал».
На обратном пути Абулесов остановил коня перед зданием, где помещался обком партии, отпустил завхоза и вместе с Салихом поднялся по лестнице.
Когда они остановились перед дверью с надписью «Казаков», Салих изумился.
— Куда мы?
Абулесов кивнул головой.
— Сюда, к товарищу Казакову.
— Зачем?
— Сейчас все узнаешь, — торопливо ответил Абулесов и открыл дверь.
Казаков говорил с кем-то по телефону. Не прерывая разговора, он жестом пригласил их садиться. Положив трубку, он повернулся к Абулесову.
— Ну, как? Все, надеюсь, в порядке? — спросил он.
— Дело за небольшим, — виновато ответил Абулесов. — Ягфаров ничего еще не знает.
— Ничего не знает? — удивился Казаков. — Правда? — обратился он к Салиху.
— Даже не догадываюсь, — ответил Салих.
Казаков покачал головой.
— Ах, товарищ Абулесов, товарищ Абулесов! Не решились сказать, побоялись? А вдруг откажется! — И Казаков повернулся к Салиху: — Так вот, мой друг, как ты насчет того, чтоб назначить тебя помощником к Абулесову?
— Меня? — изумленно и даже испуганно спросил Салих. Он с самого начала чувствовал, что директор неспроста привел его сюда, но не мог и предположить, что дело примет такой оборот.
Казаков дополнил:
— Мы прочим тебя в заведующие учебной частью техникума. Садись и подумай.
Заведующий учебной частью! Салих никак не мог прийти в себя. Перед его глазами проносились одна за другой картины, связанные с этой деятельностью. Вот педсовет, где сидят преподаватели, в течение трех лет учившие и воспитывавшие Салиха, и он там председательствует. Вот он разбирает конфликты между студентами. Вот выступает с отчетом: сперва за четверть, потом за полугодие, потом за целый учебный год... Казаков и директор выжидательно смотрели на Салиха.
— Кто же выдвинул мою кандидатуру? — спросил Салих.
— Это предложение исходит от горкома партии, — ответил Казаков. — А чтобы тебе стало яснее, скажу, что обследовано несколько учебных заведений, по поводу которых мы получили тревожные сигналы. О вашем техникуме ты рассказал сам. Ваш техникум — единственное учебное заведение в республике, готовящее работников искусств, и оно, естественно, отличается от других учебных заведений. А ты болеешь за него. Такого человека нам и нужно.
Абулесов молча кивнул головой.
— Мы понимаем, — продолжал Казаков, — что быть во главе учебного заведения, которое ты только что окончил, трудно. Придется руководить людьми, у которых ты сам недавно учился. Но ты не робей. Ты кандидат в члены партии, опирайся на парторганизацию. Скажешь, что рановато, что ты молод? Что же делать? У нас на некоторых заводах работают директорами вчерашние мастера второго разряда и работают неплохо. Придет время, будем назначать более опытных, знающих людей. А пока держись. Вот какая история, как говорит Агзамский!
Салих улыбнулся при последних словах Казакова. Ему было приятно, что в эту важную минуту вспомнили о Галляме. Агзамский когда-то рассказывал ему, как его, простого наборщика, выдвинули на руководящую работу в кантонный комитет комсомола и как он тогда волновался, Кто этот Агзамский? — спросил, заинтересовавшись, Абулесов.
— А это у нас был с ним друг, — ответил Казаков, — на днях должен вернуться в наш комвуз.
— Что вы говорите?! — обрадовался Салих.
— Вот какая история! — воскликнул снова Казаков. — Ну что ж, если возражений нет, то мы оформим твое назначение через наркомат. А до начала занятий отдохни, съезди к родным или на курорт.
Салих и Абулесов попрощались с Казаковым. Выйдя на улицу, Абулесов посмотрел на часы и сказал, казалось бы, обычные слова:
— Сейчас четыре часа. Пойдем пообедаем у меня, а потом отправимся в техникум.
Салих понял, что это было не простое приглашение, а начало совместной работы, начало новой жизни.
Салих не пошел к Абулесову, он был слишком взволнован, ему нужно было собраться с мыслями. Вернувшись к себе в комнату, он приготовил чай и, сидя над медленно остывающей кружкой, погрузился в свои думы.
7 Разложив перед собою большой лист бумаги, расчерченный красным карандашом на ровные клетки, Салих составлял расписание на первую четверть учебного года.
Сперва он решил расположить лекции по степени их трудности. Самые сложные предметы, требующие большего внимания, должны приходиться на вторые-третьи часы занятий. Но тут встретилось добавочное затруднение: вчера многие преподаватели просили дать им часы, наиболее их устраивающие.
Остро отточенным карандашом Салих надписывал названия предметов и снова стирал их резинкой. Не раз ему казалось, что он справился со своей задачей. Но в этот момент выяснялось, что на один и тот же час пришлись два предмета или же получился свободный промежуток — «окно». А преподаватели очень не любят вынужденных антрактов, они стараются читать все часы подряд, чтоб не сидеть без дела в техникуме.
Снова шла в ход резинка. Скоро бумага стала лохматой, как дубленая кожа.
«Как обойтись без резинки?» — подумал Салих.
И нашел выход. Написал названия предметов на отдельных цветных бумажках и разложил их по клеткам. Это напоминало игру в шахматы. Дело пошло скорее, и Салих облегченно вздохнул, когда составилось расписание, удовлетворяющее всех.
Счастливый, что разноцветные бумажки, наконец, удачно легли на свои места, Салих устало откинулся на спинку стула. Сегодня он должен сделать на педагогическом совете доклад. Салих не хотел ограничиваться сообщением о новом расписании, он думал затронуть еще и общие вопросы искусства. Это было очень важно потому, что некоторые преподаватели-художники находились под влиянием декадентов и презрительно третировали реалистическое направление в искусстве. Конечно, придется выдержать нападки со стороны некоторых педагогов. Но Салих предвидел их возражения и решил дать им достойный отпор.
Салих встал, потянулся всем телом, подошел к окну и распахнул его. Шел проливной дождь, но сквозь его струи пробивались косые лучи солнца. Дождь в яркий, солнечный день казался настолько необычным, что не верилось в его подлинность. В комнату вливался прохладный воздух. Салих с наслаждением вдыхал его, ему хотелось прийти на педсовет бодрым и свежим. Дождь пошел на убыль, и он решил прогуляться перед заседанием.
На педсовет собрались во-время. После летних каникул педагоги выглядели хорошо отдохнувшими и загоревшими. Они привыкли за лето к свежему воздуху и сейчас, расстегнув пиджаки, держались поближе к открытым окнам, хотя в комнате и не было душно.
— Итак, начнем, — сказал Салих.
Он не решился произнести слово «товарищи», это казалось ему фамильярностью, особенно в присутствии Сухова и еще нескольких пожилых преподавателей. На педсовете председателя обычно не выбирали, но Салих все же обратился к Абулесову:
— Вы будете вести собрание?
Абулесов еще днем предупредил Салиха, что поручает ему самому вести собрание, сейчас Салих спросил директора еще раз об этом из простой вежливости. Секретарь Зоя, длинная, худая женщина с белым лицом, которое она, несмотря на это, немилосердно пудрила, придвинула к себе бумагу, чтобы вести протокол заседания, и взглянула на Салиха с таким видом, словно говорила: «Посмотрим, каков наш новый начальник!» Салих начал с сообщения о том, что в текущем году учебный план техникума будет подвергнут большим изменениям. Он сказал, что их техникум — единственное художественное учебное заведение в республике и существует всего три года. В других республиках положение приблизительно такое же. Поэтому работать приходится, опираясь преимущественно на свой собственный опыт. Естественно, что следует ознакомиться с работой в других национальных республиках; тамошние техникумы охотно откликнулись на посланные им письма, выслали свои учебные планы, которые уже учтены в предлагаемом расписании.
Сначала Салих говорил довольно робко, с запинками. Потом, заметив, что преподаватели слушают его внимательно, продолжал свою речь более свободно. Он говорил о том, что одним из недостатков в работе техникума за прошлые годы был неправильный метод преподавания специальных предметов. Много драгоценного времени уходило зря на пустые и бесплодные споры о преимуществах кубизма над импрессионизмом. Дело же было в том, чтобы отбросить и то, и другое, как ненужный хлам.
— Каждый студент нашего техникума, — сказал он, — должен идти в ногу с жизнью.
Салих сказал о студентах, имея в виду преподавателей, и заметил, что намек его понят. Абулесов сидел неподвижно, не глядя на него, ничем не выражая своего отношения к его словам и тем самым как бы давая понять, что считает их естественными.
Конец доклада был у Салиха написан предварительно, и сейчас он повторил его слово в слово.
— Мы выпускаем из техникума не кустарей-одиночек, знающих только свои кисти, палитру и полотна, запершихся у себя в мастерских, а советских художников, строителей социализма. Они должны быть не только мастерами своего дела, но и людьми высокой культуры, сознательными членами нового общества, поставившими свое дарование на службу народу. Они должны спрашивать себя: «А поймут ли мою работу массы? Понравится ли это им?» — а не думать, как иные спесивые и самовлюбленные индивидуалисты: «Я понимаю, и этого довольно».
Как и предвидел Салих, собрание прошло бурно.
Первым выступил художник, называвший себя импрессионистом. У него были большие роговые очки и длинные волосы, которые он то и дело охорашивал. Обращаясь к собранию и не удостаивая Салиха даже взглядом, он насмешливо спросил:
— Знаете ли вы пословицу: «Яйца курицу не учат»?
Салих заранее приготовился к подобным выпадам. Он даже ожидал, что приведут именно эту пословицу, о чем и сказал перед советом Абулесову, и тот вспомнил сейчас об этом, украдкой подмигнул Салиху и улыбнулся, словно говоря: «Держись брат, будет баня!» — Да, знаем мы эту пословицу, — спокойно произнес Салих, продолжая записывать что-то в свой блокнот.
— Я очень рад, что Ягфаров эту пословицу знает, — язвительно продолжал оратор. — Никто здесь не собирается выпускать чиновников, во всем придерживающихся буквы. Но никто и не нуждается в указках неоперивших- ся юнцов. Мы хотим привить студентам то, чем сами сильны. А сильны мы исканиями. Мы ищем — во исканиях смысл искусства. Мы ищем...
— Ищем, ищем, да сколько же можно искать? Пора бы и найти что-нибудь, — раздался голос Сухова.
Старик был раздражен, видно было, что надоело ему из года в год слушать все ту же болтовню.
Салих благодарно взглянул на старого художника, а тот открыто помахал ему рукой в знак поощрения.
— Мы и найдем, — невозмутимо ответил выступавший, — только, я полагаю, без компасов и маяков товарища Ягфарова.
— Без компаса легко заблудиться и пойти ко дну, — заметил Сухов.
— Какой же компас вы имеете в виду? — спросил оратор.
Сухов поднялся с места.
— Извольте, могу сказать. Реализм. С этим компасом вы и жизнь покажете и свою индивидуальность сохраните. А без него, без этого испытанного компаса, потеряете и то, и другое. Имейте мужество согласиться, что это так. Вспомните иные картины — далеко не будем ходить, на прошедшей выставке: ни действительности в них не было, ни художника.
Сухов сел, так как реплика его перерастала в речь, а он не брал слова.
Следующий оратор напустился на Салиха по другой линии:
— Для художников достаточно знания четырех действий арифметики и выведения процента. Мы не инженеров готовим. Для пего загромождать голову студента всякими там тригонометриями? Мне могут, например, сказать, что я плохо разбираюсь в математике. Я соглашусь, но пусть согласятся и со мной, что мои картины не так уж плохи.
— У кого что болит, тот о том и говорит, — начал свою речь новый оратор. — Упреки в том, что мы отстаем от жизни, относятся и ко мне. Вы, Ягфаров, еще студентом говорили мне это, когда, помните, приходили спрашивать у меня, что такое правда в искусстве. По сейчас резкость вашего выступления я связываю с тем, что тогда сказал вам: «Не все сразу, молодой человек, поживете — узнаете». Вы обиделись, что я вас не рассматривал как почтенную личность. Однако, мне кажется, что заведующий учебной частью должен быть выше подобных мелочей. Я не знаю, имеете ли вы право указывать мне на метод преподавания. Допустим, имеете. Но не указывайте мне на творческий метод, — это, извините, не ваше дело. Это касается только меня, художника, и больше никого. Понятно?
— А люди? — спросил Абулесов. — А народ? Народа это тоже не касается?
— Я знаю только искусство, — продолжал оратор, сделав вид, что не слышал замечания Абулесова. — Мой идеал — красота. Я пишу свои картины, а зовут ли они вперед или тянут назад, это меня не интересует.
— Классики так не рассуждали, — заметил Сухов.
— Я не классик, — зло возразил художник, разведя руками в сторону Сухова: дескать, и ты не бог весть какой классик.
Несмотря на эти выступления, а может быть, благодаря им, число сторонников Салиха росло — это было видно и по многочисленным репликам в его пользу и по общему настроению собравшихся.
Понравилось, что молодой заведующий учебной частью, еще вчера ученик, смело сказал правду, которую чувствовали все.
Старый математик, редко бывавший на педсоветах и выступавший на них еще реже, на этот раз взял слово:
— Когда я узнал, что заведующим учебной частью назначили Ягфарова, я, скажу откровенно, не обрадовался. Ведь заведовать учебной частью — это, граждане, не шутка. Это не расписание составить и вывесить для обозрения, а важное и ответственное дело — воспитывать студентов, направлять педагогов. Да разве в состоянии этот юноша, думал я, поднять подобную тяжесть? А сегодня послушал его и вижу — справится он с этим делом. И говорил он смело, правильно, с любовью к искусству. Давайте, давайте, юноша, а мы, старики, вас поддержим.
Раздались аплодисменты.
Много значило для Салиха это теплое приветствие.
— Я не буду выступать, — продолжал математик, — против тех, кто считает, что математика художнику ни к чему и как будто даже мешает. У меня имеются в запасе доказательства, которые камня на камне не оставят от этой, с позволения сказать, «теории». Я только предложу товарищам, выступавшим против Ягфарова, честно задать себе простой вопрос: «А педагог ли я?» Может ли учить других человек, у которого нет твердой почвы под ногами, который с сомнением относится к своему собственному делу? Пусть они об этом подумают, если они честные люди.
После речи математика поднялся художник, выступавший первым, и обратился к Сухову. Он сказал, что не понимает, как художник такого веса и таланта, как Сухов, может выступать против исканий в искусстве. Высказавшись, оратор сел с таким видом, будто он глубоко скорбит по поводу заблуждений Сухова.
Сухов ответил:
— Не могу в данный момент разобраться: в самом ли деле вы меня не понимаете или притворяетесь непонимающим? Допуская первое, отвечу: искания, конечно, нужны и даже обязательны, без исканий нет движения вперед — и не только в искусстве. Но искать надо в правильном направлении, тогда искания увенчаются успехом. А ваши формалистические выкрутасы только заведут в болото. Об этом идет сейчас спор, а не об исканиях. Наша задача здесь, в техникуме, — давать студентам не только знания, а направлять их по верному пути, тогда и знания им пригодятся. Великие русские художники, у которых я учился, так нас воспитывали и нам завещали так же воспитывать новое поколение. Молодец Ягфаров! Умница! В самый корень взглянул! Его устами высказала свои истинные требования молодежь, и мы, старики, ее поддержим.
— Спасибо! — ответил Салих, поднявшись для заключительного слова. — Я чувствую себя сейчас увереннее, чем в начале заседания. Скажу откровенно: я беспокоился за свой доклад, не был уверен, достигну ли такой дружной поддержки. Если я сказал правду, то не потому, что я какой-нибудь особенный человек, как выразился здесь Владимир Иванович, а потому, что так учили меня смотреть партия и наша советская жизнь. Художник должен не слоняться вокруг да около жизни, а активно вмешиваться в нее. И наша задача — воспитывать таких художников, которые помогали бы народу строить социализм. В этом был смысл моего доклада.
Заседание кончилось, но люди не расходились, — вопросы, обсуждавшиеся на заседании, всех задели за живое, многие подходили к Салиху и жали ему руку.
А секретарь Зоя, которая в последнее время вела себя очень свободно, приходила и уходила, когда хотела, подошла к Салиху и попросила разрешения уйти.
Когда все разошлись, Абулесов распахнул окно. В комнату вместе со свежим воздухом ворвался шум города. Глядя на мерцающие огни домов, Абулесов сказал Салиху:
— Молодец! Ты выдержал испытание. Взял быка за рога. Прямота твоя всем понравилась. Рискованно было, конечно, выступать так на первом же заседании. Если бы ты выступил неудачно, не скоро завоевал бы у них авторитет. Но получилось хорошо. Поздравляю, твоя победа.
— Наша победа, — поправил Салих. — Бывает, что надо брать быка за рога, агай, иначе его не возьмешь. Что касается прямоты, то меня учил этому старик Казаков, сам подавал пример. А спорщики — они, в конце кон-12*
цов, наши же люди и будут с нами. Зачем же говорить с ними на дипломатическом языке!
8 До прихода поезда оставалось полчаса. Салих и Васима прогуливались по перрону. Васима была в тонком сером пальто, в белом берете, из-под которого волнами падали черные волосы, — невозможно было узнать в этой стройной девушке деревенскую девочку, еще так недавно пугливо озиравшуюся на дома большого города.
— Где же могли встретиться Рауза с Таз- кирой? — спросила Васима.
— Где-нибудь в дороге. Иногда встречаешь знакомого там, где никогда не думаешь его увидеть.
— Значит, снова собираемся вместе, — повторила Васима сказанные когда-то Салихом слова.
— А потом опять разъедемся, — докончил Салих с улыбкой.
Салих ждал уже не невесту, а жену. Два месяца назад Рауза приезжала в Уфу, и тут они быстро сыграли свадьбу, после чего Рауза вернулась обратно в Аккуян за вещами. А сегодня пришла телеграмма: «Встречайте, еду с Тазкирой». Тазкиру они никак не ждали, поэтому Васима уже третий раз задавала брату один и тот же вопрос.
Салих взглянул на часы, он боялся, что поезд опоздает, — через два часа ему предстояло быть на открытии художественной выставки. Выставка картин художников Башки- 35брии посвящалась основателю художественного музея в городе, знаменитому русскому художнику Михаилу Васильевичу Нестерову. В художественном музее висят картины, подаренные Нестеровым, — Репин, Левитан, Айвазовский, Шишкин и сам Нестеров. А сейчас среди них будут висеть картины молодых талантливых художников Башкирии. Было отчего волноваться. Уже несколько дней Салих не знал покоя. Ведь и его картина будет обсуждаться.
Картина его называлась «Комсомольский субботник на селе». В ней была частица его жизни, пережитого им. Картину Салих писал много лет спустя после события, послужившего ему темой для нее. Зная, кем стали и чего достигли люди, изображенные в картине, его друзья, Салих старался показать перспективу, видную из прошлого в будущее.
На выставке он, конечно, ничего об этом не скажет, — пусть люди сами решат, что он написал, — но мысль о том, что сегодня он услышит о себе суждения зрителей, волновала его.
Запыхавшись, как беговая лошадь, примчался поезд и, тяжело дыша, остановился перед зданием вокзала. В телеграмме вагон не был указан, поэтому Салих с Васимой побежали в разные стороны. Васима оказалась более счастливой, Салих услышал ее пронзительный голос: «Сюда, сюда!» Салих стал пробираться сквозь толпу и увидел всех троих — Васиму, Раузу и Тазкиру. Рауза держала в одной руке чемодан, на другой было перекинуто пальто. Тазкира же была в одном платье, без чемодана, даже голова не была покрыта.
Как это бывает при встречах, все заговорили разом, перебивая друг друга, задавали торопливые вопросы и не дожидались ответов.
— Что мы стоим? Пойдем! — сказал Салих, взяв чемодан Раузы.
— Нет, не пойдем! — заявила Тазкира. — Вы пойдете, а я останусь.
— Узнаю Тазкиру, — рассмеялся Салих. — Очередная выдумка!
— Она в самом деле остается, то есть едет дальше, — пояснила Рауза. — Я всю дорогу уговаривала ее задержаться хоть на день в Уфе.
Салих был в полном недоумении, и Тазкира рассказала, что едет в Москву с экскурсией, а из Москвы на Кавказ, что она могла бы, конечно, остановиться на день в Уфе, но ей не хочется расставаться с друзьями — тут Тазкира неожиданно покраснела. Только сейчас Салих заметил стоявшего позади Тазкиры юношу в клетчатой рубашке, который с видимым интересом разглядывал Салиха.
— Знакомьтесь, агай, — сказала Тазкира брату. — Мой спутник Масгут Хабиров.
Рауза, улучив минуту, шепнула на ухо Салиху:
— Внимательно взгляни на него, после кое- что расскажу.
Но, занятый своими мыслями, Салих не обратил внимания на ее слова. Когда раздался свисток и поезд тронулся, Тазкира вскочила на подножку поезда, а ее спутник встал позади нее и тоже махал рукой Салиху.
— Ты взгляни на него глазами художника, — сказала Рауза.
— Почему художника? — удивился Салих...
— Потому, что это будущий муж Тазки- ры, — сказала Рауза.
— Как?! — вскричал Салих и бросился было вдогонку поезду, чтоб взглянуть еще раз на юношу, но поезд мигнул на прощание красным глазом и исчез.
Салих и Рауза очень соскучились друг по другу. Всю дорогу они беспрерывно перебивали друг друга и не могли наговориться.
Дома Салих и Васима наперебой принялись ухаживать за Раузой: один тащил тапочки, другая — мыло, полотенце.
— Дайте же мне квартиру посмотреть, — остановила их Рауза.
Она осмотрела новую квартиру, о которой ей писал Салих. В квартире было две комнаты, меньшая-спальня, в ней умещалась только одна кровать, в другой, побольше, были расставлены стол со стульями, этажерка и кровать Васимы. Стены сплошь, от карнизов и чуть не до пола, были завешаны картинами, эскизами, этюдами; они придавали комнате парадный вид. Васима накрыла на стол, и Рауза вывалила на него целую гору деревенской снеди.
— Прости меня, Рауза, — но сегодня открытие выставки, — сказал Салих, взглянув на часы, — а я член комиссии.
— Я сейчас быстро управлюсь, и на выставку пойдем вместе, — сказала Рауза. — Ведь там будет и твоя картина?
— Нет, я не успел закончить.
За завтраком Рауза рассказывала об Ак- куяне. Ей очень полюбилась эта деревня и люди, и сама она, кажется, пришлась там всем по душе. Все огорчились, когда она уезжала, а учитель Гильман даже всплакнул. Пригласил ее перед отъездом в гости. Жена Гильма- на приготовила курицу, начиненную яйцами, и много других угощений. Допоздна разговаривал Гильман. «Если встретишь Салиха, — просил он, — скажи ему, что я больше не хальфа, а народный учитель». Рауза постеснялась сказать в Аккуяне, что вышла замуж за Салиха. «Если бы они узнали, еще на неделю задержали бы».
У Хасана с Миньямал второй сын родился. Исписали целый лист с именами, составленными из первых букв и слогов лозунгов, но ни на одном не остановились. По совету Раузы, мальчика назвали Хусаином, по имени известного татарского революционера-большевика — Хусаина Ямашева. Это имя звучало и как отцовское — Хасан. Миньямал роды пошли на пользу, она стала дородная и сильная.
— Руки у нес вдвое полнее, чем мои, — сказала Рауза. — А дети — одно загляденье. Крепкие, круглые, щечки тугие и румяные, как яблоки. Когда их поднимаешь, кажется, что это тяжелые мешки с зерном. Кстати, у тебя должна быть фотография Миньямал с подстриженными волосами. Она просила тебя сделать большой портрет, и я прошу об этом.
— Сделаю, сделаю. А как Хасан? Расскажи о нем поподробнее.
— Что же тебе рассказать о нем?
— Ну, как выглядит, чем занимается, вспоминает ли меня?
— Выглядит он хорошо. Пополнел, усы отпустил. Такой же молчаливый. В свободное время любит возиться с детьми, какие только имена им не придумает! Правда, свободного времени у него очень мало. Сейчас он секретарь партийной организации и дома почти не бывает. Я тебе, помнится, писала, что в него стреляли через окно, когда он сидел в сельсовете, но промахнулись, к счастью. Розыски пока ни к чему не привели. Хасан вспоминает тебя: «Вот, говорит, не придавали значения его занятиям живописью, думали, что это просто так, увлечение молодости, а оказалось — призвание». Бикбулат уехал из Аккуяна, стал директором большого совхоза. Халькес-бабай сильно постарел, но шутит по-прежнему. Соберет пионеров и просит их почитать газету. «Дедушка Халькес плохо слышит, так мы ему кричим, кричим, пока не охрипнем», — говорят пионеры, но любят старика, он им много интересного рассказывает. Тухфат-мулла исчез; говорят, кое-кто в деревне получает от него письма. Как видишь, новостей много, всего не расскажешь.
Салих сидел задумавшись.
— Ты что, устал? — спросила Рауза.
— Нет. Мне почему-то вдруг захотелось поехать в деревню, самому увидеть все эти перемены.
9 Салих водил Раузу по выставке. Он часто останавливался перед картиной или рисунком, казавшимися Раузе ничем не примечательными, и подолгу рассматривал их, то отступив на несколько шагов, то подойдя вплотную. Рауза не понимала, что в них привлекает мужа, и он объяснял ей особенности и тонкости картины, ускользавшие при первом взгляде. Рауза обычно соглашалась с ним, удивляясь, как она сразу не заметила этого.
Салих часто спрашивал ее:
— Тебе нравится?
— Хорошая картина, — отвечала Рауза.
— А чем хороша? — продолжал расспрашивать Салих.
Раузе нравились многие картины, но она не могла толком объяснить, чем же они особенно хороши. И она отвечала:
— Ну... тем, что в них все как в жизни... — и, понимая, что этот ответ мало удовлетворяет Салиха, она громко смеялась.
— Пойдем, я тебе покажу одну очень интересную картину, — сказал Салих и подвел Раузу к большому полотну, висевшему в углу.
На полотне был изображен человек с каким-то четырехугольным предметом в руках. Человек куда-то бежал, судя по тому, что не только полы его желтой одежды и зеленые волосы развевались по ветру, но даже уши оттянулись назад, наподобие заячьих. За ушами и за волосами шли какие-то бесконечные волнистые линии.
Рауза озадаченно, несколько даже оробев, смотрела на картину. Она боялась сказать, что ничего не понимает.
— Что, по-твоему, делает этот человек? — спросил Салих, желая помочь ей.
Рауза еще раз добросовестно осмотрела картину и сказала вполне серьезно:
— Одно из двух: либо, как в сказке Тукая, этот парень украл гребенку у русалки и бежит от нее, либо собирается этим камнем убить змею.
— Как говорят, либо женился, либо ногу сломал, — рассмеялся Салих. — Кстати, этот четырехугольник вовсе не камень, а книга.
— Книга?
— Да, книга. А все вместе изображает жизнь, которую ты прекрасно знаешь.
— Я знаю эту жизнь?! — Рауза пришла в ужас.
— Да, картина называется «Книгу в село».
Рауза испуганно посмотрела на Салиха.
— Как это понять?
— Это особое направление в живописи.
— Начинаю понимать, — сказала Рауза. — Направление — чтоб не было похоже на жизнь.
— Совершенно верно. И раз ты эту жизнь не узнала на картине, то художник должен быть доволен результатом.
— Ну, ладно! Давай я повожу тебя по выставке. Мне, как только мы вошли, бросилась в глаза картина вон на той стене, я все время хотела подойти к ней, а ты не пускал меня, все хвастал зелеными волосами на картинах твоих приятелей. Пойдем.
Салих понял, о какой картине говорит Рауза, и заволновался, как школьник, но не подал виду и покорно последовал за женой. Полгода в тайне от любимой девушки он писал эту картину. Он собирался сделать ей сюрприз, вроде свадебного подарка; ему хотелось также, чтоб она, не зная автора, вникла в картину и сказала свое мнение о ней.
Картина изображала весенний день. Из- под снега обнажилась земля. Зелени еще не видно, но чувствуется, что деревья ожили и на них вот-вот распустятся листья. На переднем плане юноши и девушки кладут поверх белых камней красные кирпичи — это фундамент. Вид у молодежи возбужденный и счастливый.
— Я их всех знаю! — удивленно воскликнула Рауза.
— Нет, знакомых у тебя среди них нет.
— Все равно они знакомы мне, и я чувствую, что могла бы находиться среди них. Это ведь наши ребята, комсомольцы.
Лучшей награды, чем эти слова, Салих и не желал.
— Ты права, Рауза, — сказал, он, — эта картина называется «Комсомольский субботник».
— А кто художник? Здесь не указано.
— Я тебе после скажу. Даже, если хочешь, познакомлю с ним.
Они снова пошли по выставке. Вдруг Салих остановился и поспешил вперед со словами: «Моя знакомая». Рауза взглянула в сторону, куда бросился Салих, но никого не увидела. А Салих уже стоял перед портретом немолодой женщины, одетой в летний кафтан, с ярко-зеленым платком на голове.
— Вот это твоя знакомая? — спросила Рауза.
— Да, только я никак не могу вспомнить, где я ее видел, но ручаюсь, что знаю ее отлично.
— Тебе просто понравилась хорошо написанная картина.
— Нет, картина написана как раз слабовато, бледно, есть ошибки, но это лицо, это лицо... Откуда взял его художник?
Вдруг Салих громко рассмеялся и воскликнул:
— Так это вы, тетя Бадар? Мы с вами, если помните, познакомились в Судбазаре. Я был тогда еще юным комсомольцем, и вас мы избрали делегаткой на волостную конференцию! Значит, и вы решили посетить нашу выставку? Очень рад! Очень, очень рад!
— Салих! — схватила его за руку Рауза. — Опомнись! Что с тобой?
— Если тебе кажется, что я не в себе, то ты совершенно права, это от радости: я давно мечтал о встрече с этой женщиной.
И Салих коротко рассказал Раузе историю Бадар. В это время к ним подошел высокий человек с длинными усами, которые он поминутно разглаживал.
— Вы товарищ Ягфаров? — спросил он и в ответ на утвердительный кивок Салиха отрекомендовался: — Я художник Якшембатов, это моя картина.
— Вы знакомы с этой женщиной? — живо спросил Салих, показывая на портрет.
Якшембатов сказал, что узнал о Бадар от одного фотокорреспондента. Бадар была недавно в Уфе, на совещании женщин — руководящих работников. Сама она, оказывается, председатель сельского совета. Говорят, это первая башкирка председатель сельсовета. На совещании она крепко критиковала областные организации. Выступление ее было настолько интересным и самобытным, что фотокорреспондент заснял ее и подарил карточку Якшем- батову. Самой Бадар художник не видел.
— Это заметно, — разочарованно сказал Салих, — и даже обидно. Скажу вам честно — это не творческая работа, а простое увеличение. Жаль, жаль! Раз вам так понравилась карточка, следовало бы найти оригинал. И вам было бы интереснее, и нам.
Якшембатов не нашелся что ответить и, скрывая смущение, усиленно разглаживал свои усы.
Салих еще раз взглянул на портрет. «Подумать только — председатель сельсовета! А мы боялись, не ошиблись ли, выдвигая ее... Прав был Казаков, оправдались его слова».
Спускаясь вниз по широкой лестнице, Рауза обратилась к Салиху:
— Где же художник, с которым ты обещал меня познакомить?
— Он рядом с тобой.
Рауза пригнула к себе голову Салиха и сказала ему на ухо:
— Передай этому художнику, что его картина лучшая на выставке.
Мнение Раузы было недалеко от истины — в тот же вечер картина получила единодушное одобрение комиссии.
10 Однажды, выходя из учительской, Салих увидел в коридоре оборванного человека — он показался ему знакомым. Салих вгляделся и ахнул — это был Фарук.
— Агай, это ты? — спросил он, пораженный.
Фарук ничего не ответил, даже руки не протянул.
— Откуда... в таком виде?
Фарук вяло махнул рукой и сказал усталым голосом:
— Долго рассказывать.
— Тогда иди ко мне на квартиру. Сейчас я не могу — у меня занятия. Вернусь — поговорим.
И Салих, черкнув на листе бумаги адрес, дал его брату, а сам ушел на урок.
Тяжелое впечатление от этой встречи слегка сгладилось во время занятий. Ученики все хорошо выполнили домашние задания. Чувствовалось, что их уже не удовлетворяет школьная программа и они стремятся разрешать более сложные художественные задачи. «Надо дать им задание посложнее, организовать кружок, — подумал Салих, — а то они могут пойти по неверному пути».
Салих совсем недавно узнал, что один из его учеников, очень способный студент, легкомысленно связался с каким-то «вольным художником» и помогает ему поставлять на рынок для мещанского потребителя «художественную» продукцию. Салих не назвал ни разу имени студента, но в насмешливых тонах говорил об обывательских вкусах и о тех, кто им угождает. Дружный смех аудитории сопровождал его слова.
Студент сидел как пришибленный. «Пожалуй, — подумал Салих, — не понадобится особого разговора». Только когда раздался звонок, Салих взглянул на него, они обменялись взглядами и, казалось, поняли друг друга. Вернувшись в учительскую, Салих застал Фарука на том же месте, где его оставил. Фарук прикорнул у печки и дремал. Лицо его было помято, как его старый картуз на голове. У ног валялась бумажка с адресом Салиха, — видимо, он уронил ее, задремав. Преподаватели косились на странного человека у печки, догадываясь, что он имеет какое-то отношение к Ягфарову, и делали вид, что ничего не замечают.
Салих осторожно растолкал Фарука, объяснил шепотом, что еще задержится, и сунул обратно в руку записку с адресом. Фарук взглянул на Салиха тусклыми глазами, покачал головой, сказал: «Хорошо, пойду», — но и после следующего урока Салих застал брата дремлющим на том же месте. Только когда кончились занятия, Салих увел его домой. За чаем он спросил Фарука:
— Ну, рассказывай, что случилось.
— Долго рассказывать, — опять повторил Фарук.
— Хорошо, рассказывай долго, я долго буду слушать.
Фарук с трудом разговорился; по его вздохам, которыми он сопровождал свой рассказ, видно было, что он переживает самый тяжелый час в своей жизни.
— Я нашел правду, — сказал Фарук, — но после долгих блужданий и боюсь, что уже поздно. Я был под влиянием Тухфата-муллы и жены своей Нафисэ и пытался стать поперек новой жизни. Играл на руку кулакам, поддерживал националистов. Только теперь я понял, что я, сын революционера, для них был очень удобной ширмой. Дурак я, дурак! Я воображал, что Тухфат-мулла меня уважает, что жена меня любит. А они смеялись надо мной за глаза, поносили моего отца и брата и, прячась за моей спиной, хотели мстить народу за то, что остались не у дел. Я не сегодня только это понял. Помнишь, я приходил за тобой, повел тебя к себе на квартиру? Хотел тогда в твоем присутствии сказать Нафисэ все, что я думаю о ней и о всех ее близких. Но ты рассердился и ушел.
Салих вспомнил, что Фарук, в самом деле, вел себя довольно резко с Нафисэ, вступился за отца. «Если бы я знал тогда, зачем он меня привел, — подумал Салих, — я, конечно, переждал бы эту канитель и поддержал брата».
— Я порвал с Нафисэ, — продолжал Фарук, — вернее, она со мной. Видя, что я все более чуждаюсь их, все более отдаляюсь и надежда на меня плоха, что я, чего доброго, могу подвести их, она бросила меня. «Ты мне больше не нужен, — сказала она на прощанье со смехом. — Все, что можно было, я взяла, а теперь какая от тебя польза? Пропадай один». Вот я и пропадаю.
Салих и Рауза долго не могли ничего сказать. Рауза так и стояла у стола с чайной посудой в руках.
— Что ты думаешь делать теперь и какая нужна тебе помощь? — спросил, наконец, Салих.
— Какая помощь? Твое ободрение, твое доброе слово. Скажи мне: «Нет, ты не пропащий человек, ты можешь выбраться из болота, ты еще станешь полезным винтиком в нашей жизни». Больше мне ничего не нужно. Если ты это скажешь — и от чистого сердца, если я увижу, что ты веришь в меня, тогда я смогу твердо встать на ноги. Где я только не был, в каких уголках страны не побывал, каких только людей не видел, чего только не слышал! Я понял, дорогой мой, что нет иной жизни, кроме той, которой ты живешь, брат. Все прочие дороги ведут к гибели.
— Скажи, ты выпиваешь? — спросил Салих, понизив голос.
— Бывает. Но могу взять себя в руки. Могу, брат. Посоветуй, что делать, куда идти. Может, пойти чернорабочим на завод?
— Не обязательно, — подумав, сказал Салих. — Ты человек грамотный, а в культурных людях у нас нехватка, сам знаешь. Было бы желание, а твои знания могут принести пользу народу. Зачем на завод? Поезжай обратно в нашу деревню, докажи людям, что ты сын своего отца. Жители Аккуяна теперь все вошли в колхоз и назвали его «Путь к социализму». Среди них, может, и не было людей, прошедших, вроде тебя, сложный, запутанный путь, но встречались такие, у которых были свои сомнения и пережитки, и они побороли эти сомнения и теперь обрели счастье. Мне вот Хасан писал про Ташбулата, что ходил он вокруг да около настоящего дела, пока не взялся за ум. Попробуй скажи ему теперь: «А не выйти ли тебе, Ташбулат, из колхоза?» — он тебе голову камнем прошибет. Поезжай туда, осмотрись, на людей погляди, и легче тебе будет выбраться на дорогу.
Долго в этот вечер разговаривали братья. Никогда так не говорили. Перед ужином Фарук сказал, что пойдет прогуляться. Ушел и не вернулся: две ночи ждала его постель, постланная Раузой на диване.
До того дня Салих не считал его родным, хоть они были братья. Хаким, или Хасан, или Бикбулат были ему ближе и роднее. Но после этого разговора он стал думать о судьбе Фарука. Вот так же жалко ему было красавицу Зюхру. Он часто вспоминал ее, жалел, что тогда не помог ей ни словом, ни делом. Жалел, что не сходил тогда к Казакову. Старик не оставил бы этого дела, придумал бы что- нибудь. А теперь Фарук. Где он теперь, в каких местах бродит, в какую сторону подался? Неужели он думает найти выход по географической карте? Там он не найдет его. Как же тут быть все-таки? Хорошо бы пойти к Казакову посоветоваться. После разговора с ним всегда становится легче и яснее на душе.
11 Красновато-желтые листья на ветках тополей и кленов, высохшие и обессиленные, при малейшем дуновении ветерка, медленно кружась, падали на землю. Перламутровое солнце не поднималось высоко над горизонтом, а, побродив по его краю, опускалось вниз, будто говоря: «Летом я вволю погуляло, пора и честь знать».
Салих шел по улице, сухие листья шуршали у него под ногами. Сегодня он решил навестить Казакова. После исчезновения Фарука он собирался пойти к Казакову, но вскоре получил письмо от Хасана, сообщавшего о приезде Фарука в Аккуян и о том, что его решили поддержать и помочь ему выправиться. Не раз собирался Салих зайти к Казакову, немало накопилось вопросов и сомнений, да все откладывал — не то, так другое мешало. На этот раз он решил оставить все дела и посидеть у старика.
Давно не был Салих на улице, где жил Казаков. Он помнил здесь маленькие и при-земистые домики. Сейчас на их месте поднимались новые, красивые здания.
Когда он подходил к дому Казакова, из ворот выехала легковая машина и тут же остановилась. Дверца открылась, и оттуда высунулась голова Агзамского. Он протянул растерявшемуся Салиху руку со словами:
— Крепко жму вашу талантливую руку!
Если бы Агзамский даже не высунулся из машины, Салих сразу бы узнал его по этому шутливому тону.
— Ты пришел провожать старика? — спросил Агзамский. — Я тоже. Только, братец, опоздали мы с тобой. Вот какая история! Он уже на вокзале. Садись, поедем, авось застанем еще.
Салих опешил:
— Постой! Говори толком! Почему провожать?
— Так ты ничего не знаешь? Садись, не будем терять времени. По дороге расскажу.
Агзамский потянул Салиха за руку, усадил его на заднее сиденье и сам пересел к нему. Агзамский сильно изменился с тех пор, как его последний раз видел Салих, — он пополнел, носил очки, усы отпустил длиннее, и это придавало ему солидность. При всем том, он был тот же прежний восторженный Агзамский.
Он рассказал, что Казакова отзывают в Москву, в ЦК.
— Как же я ничего не слышал? — огорчился Салих. — Правда, несколько месяцев назад, когда я был у него, он сказал мне: «Придется, видно, нам расстаться». Я спросил, почему, и 372он ответил: «Жизнь идет». Он не любил много говорить, когда вопрос не был ясен. Подумать только — он мог уехать, и я даже не попрощался бы с ним!
Салих вспомнил свою первую встречу с Казаковым и последние беседы с ним, как тот помогал ему стать тем, чем он теперь стал, как незаметно направлял его, как вселял в него бодрость и веру, как в трудную минуту всегда был рядом, будто заранее знал, что его молодому другу нужна помощь и поддержка.
Машина остановилась у вокзала. Салих и Агзамский выскочили из нее и бросились бегом на перрон, боясь опоздать. Но время еще было. Казаков увидел их издали, запыхавшихся, и, улыбаясь, пошел навстречу.
— Хорошо, что приехали. Обидно было бы не повидать вас перед отъездом. Третьего дня я был в музее Ленина и видел твою картину, Ягфаров, «Ленин в Уфе». Хорошая картина, но над ней, по-моему, надо еще поработать. Я не успел с тобой связаться, но свои соображения подробно рассказал директору музея.
Приехали новые провожающие, и разговор стал общим. Казаков мало говорил, но долго и внимательно смотрел на своих друзей и воспитанников, молодых и пожилых; каждый из них напоминал ему пройденный путь, его работу в кантоне и в Уфе. Глядя то на одного, то на другого, он словно перелистывал страницы своей жизни, полной трудностей и борьбы. Ведь эти люди выросли и закалились при нем и с его помощью. Разве это не вознаграждение за его труд партийного работника и руководителя?
Казаков пожал всем руки, и Салиху показалось его рукопожатие особенно теплым и ласковым. Он вспомнил своего отца и, схватив руку Казакова, пожал ее обеими руками с особым, непередаваемым сыновним чувством.
На обратном пути Агзамский и Салих ехали молча. Когда машина подъехала к дому Салиха, Агзамский сказал ему:
— А ведь старик любил тебя, пожалуй, больше, чем всех нас. Помнишь, как я старался во всем подражать Казакову? Мне всегда доставляло удовольствие, когда меня называли «маленьким Казаковым». В юности бывает приятно, когда рядом есть человек, которому ты можешь подражать. Нам с тобой посчастливилось, Салих.
Поднимаясь по лестнице, Салих вдруг вспомнил газетную заметку о присвоении Аг- замскому ученого звания кандидата исторических наук. «А я даже не поздравил его, — упрекнул он себя, но подумал: — Поймет он, что не до того мне было».
Рауза готовилась к докладу о великом русском химике Бутлерове, по заданию городского лекционного бюро, и не заметила, как вошел Салих. С тех пор как родился сын Карим, он входил в дом на цыпочках.
— Ты вошел, как кот, бесшумно...
— Шш! Он спит? — Салих кивнул головой на кроватку, где лежал Карим.
Подойдя поближе, Салих наклонился над Каримом, но Рауза предостерегающе подняла палец: «Разбудишь...» Затем протянула Салиху конверт. Он вынул фотографическую карточку, письма в конверте не было. На карточке Салих увидел девушку и юношу, которые, тесно прижавшись друг к другу, радостно улыбались. Салих узнал Тазкиру и Хабирова. Сейчас он получил возможность не спеша изучить лицо друга Тазкиры.
— Вот так история! — сказал он, возвращая карточку Раузе.
Оба рассмеялись. ЭПШЮГ 1 В жаркий августовский день, подняв тучи пыли, въехали на деревенскую площадь один за другим тридцать новеньких грузовиков и выстроились по пять в ряд. Из кабин вышли шоферы в чистеньких комбинезонах и три пассажира — мужчина, женщина и мальчик лет пяти-шести. Они вытащили из кузова небольшой багаж и сложили его у телеграфного столба.
Была страдная пора, люди работали в поле, и на улице не было ни души. Только услышав шум машин, прибежали откуда-то ребятишки и, как воробьи, усеяли кузова и подножки грузовиков.
— Видать, новые, — сказал один.
— Прямо с завода, — подтвердил другой.
На площадь вышла дородная старуха, повязанная цветным передником поверх черной юбки, и кинулась к ребятам.
— Кыш отсюда! Еще задавит.
Два мальчика, видимо старухины внучата, нехотя отошли от машин, другие не думали трогаться и только смотрели с таким видом, словно хотели сказать: «Эх, бабка, да что ты можешь понимать в грузовиках!» Сами они считали себя знатоками — и, надо сказать, не без некоторого основания.
Старуха обратилась к приезжим, словно беря их в свидетели:
— Подумайте только! Столько машин! Не обернешься, мигом задавят.
Пассажиры вежливо улыбнулись, не разделяя, должно быть, опасений бабушки.
Старуха оказалась словоохотливой.
— Не скажете, это машины для нашего района? — спросила она.
По-видимому, машины внушали ей не только страх.
— Нет, — ответил мужчина, — они поедут дальше.
Старуха была, видно, несколько разочарована.
— Откуда же они идут?
Ребята, облепившие машины и прислушивавшиеся к разговору, ответили хором:
— Из Челябинска!
— А я не вас спрашиваю! — прикрикнула на них старуха.
— Дети верно говорят, — подтвердил мужчина, — из Челябинска.
— Сама знаю, что из Челябинска. Я просто так спрашиваю. Как не знать! Там ведь большущий завод. Каждый день мимо нас проходят оттуда то машины, то комбайны, то тракторы. Они, — кивнула она на детей, — все зна-ют, и страху никакого. Когда я была в их годах, за всю мою жизнь прошла всего одна машина: уфимский губернатор ехал в Оренбург. Вся деревня выбежала смотреть на машину. А теперь самый обыкновенный крестьянин на ней ездит, и никто не удивляется.
Старуха вынула из передника горсть зеленых стручков гороха и протянула женщине.
— Попробуй, дочка!
Женщина попыталась было отказаться, но старуха заставила ее взять. Она ссыпала горох из своей широкой горсти в сложенные ладони женщины, горох не уместился там и просыпался на землю.
— Вы с этими машинами приехали? — спросила старуха.
— Да, но только со станции.
— Со станции? Знаю станцию! Как не знать! — Старуха независимо глянула в сторону ребят: не хотелось ей показать себя отставшей. — Машины там выгружают, а оттуда они следуют своим ходом. А по какому делу к нам? Уполномоченный, наверное, или просто так?
— Нет, бабушка, мы едем в деревню Ак- куян.
— Аккуян? Знаю, как не знать. Только сейчас называют ее больше «Путь к социализму», — наставительно произнесла она, взглянув на ребят, которые, сидя на машинах, невозмутимо слушали разговор.
— Не знаете, бабушка, есть ли тут гостиница? Хотелось бы передохнуть с дороги.
— Гостиница? Как не знать! Но вы, голубчики, проехали ее, надо было вам пораньше слезть... Да что там, пойдемте ко мне. Дом у 378меня просторный, поспите, отдохнете, покормлю, чем бог послал. Мальчик-то ваш, бедняжка, совсем притомился.
И без лишних слов старуха подняла один из чемоданов и зашагала вперед. Приезжие пошли за ней. Освежившись прохладной водой и переодевшись, они уселись за стол, на который гостеприимная хозяйка уже поставила солидную кринку молока и высыпала целую груду огурцов, лука и крупных, с кулак, помидоров.
— В нынешнем году, урожай огурцов, какого сроду не было! Останется и после засола, — говорила старуха. — Ходит слух, что открывают консервный завод и будут туда принимать огурцы и помидоры. Скорей бы, а то девать их некуда. Значит, вы в Аккуян? А зачем, если не секрет?
— Я оттуда родом, — сказал мужчина.
— Нынешний председатель райсовета тоже родом из Аккуяна.
— А как его фамилия, не знаете? — живо спросил мужчина.
— Знаю! Как не знать! Хакимом зовут, Хаким Биктимирович.
Мужчина и женщина радостно переглянулись.
— Но ведь Хаким, кажется, был директором МТС? — спросил мужчина.
— Как же, знаю! Был директором МТС и хорошо показал себя. Народ и выбрал его в райсовет...
— Так он здесь живет? — нетерпеливо прервал ее мужчина.
— Где же ему жить? — удивилась старуха. — Вон тот дом, видите — зеленый с белыми ставнями? Там и живет, и семья его с ним, в прошлом месяце привез.
Мужчина встал с места.
— Простите, хозяюшка и ты, Рауза, я пойду...
У председателя райсовета шел прием посетителей.
— Товарищ Хаким у себя? — спросил приезжий у секретаря, который сидел, не поднимая головы от бумаг.
— А вам по какому делу?
— Я из Уфы.
Только сейчас секретарь поднял глаза на посетителя.
— Из Уфы? — переспросил он приветливее. — Вам срочно к председателю?
— Я могу подождать, — сказал приезжий, взглянув на очередь у дверей. — Но если зайдете к нему, скажите, что приехал Салих Яг- фаров. Он знает.
Секретарь широко улыбнулся, напускная важность слетела с его молодого лица.
— И мы знаем, кто такой Салих Ягфа- ров! — сказал он, сияя, как весеннее солнце.
В очереди оживились. Тот, кто сидел первым к двери и придвинулся было ближе из опасения, что новый приезжий из Уфы захочет пройти без очереди, охотно отодвинулся, выражая готовность пропустить вперед такого гостя.
Секретарь успел доложить председателю о приезде Салиха, и на пороге кабинета показалась знакомая фигура Хакима. Друзья обнялись. Хаким ввел Салиха в кабинет и усадил его в кресло.
— Вот и свиделись, — сказал он. — Очень рад.
Хаким заметно изменился, пополнел да и постарел.
— И ты уже не юноша, Ягфаров, — улыбнулся Хаким, словно прочитав мысли Салиха.
— Как видишь, потянуло обратно в молодость, приехал проведать родные края.
И Салих рассказал Хакиму об истинной цели своего приезда. Его картины, изображавшие жизнь в Аккуяне, относятся к давним временам, — много воды утекло с тех пор в реке Тук, и сам он стал зрелым художником. И у него возникла мысль написать о тех же местах и тех же людях — как они изменились и чем стали сегодня.
— Хорошая мысль! — похвалил Хаким. — Ты деревни не узнаешь и людей не узнаешь, их рост бросится в глаза тебе больше, чем кому- либо другому. Ты сделаешь большое дело. Ну, мы успеем еще наговориться. У меня народ, а ты, видно, еще не отдохнул. Почему Забира мне не позвонила?
— А мы даже не знали, что ты здесь. Тут одна незнакомая женщина нас приютила.
— Кто это «мы»? Разве ты не один?
— Яс Раузой.
— А, и Рауза здесь?
— И Карим, сын.
Хаким даже свистнул от удовольствия. Он подошел к дверям, вызвал шофера и распорядился отвезти Салиха к себе на квартиру.
Забиру Салих нашел еще более постаревшей, чем Хаким, она даже ростом как-то ниже стала. Жаловалась на недуги, говорила о детях.
— Дети хорошие, обижаться — грех, а все же сердце не на месте. Когда они были маленькие, все думалось — вот вырастут, и заботы с возрастом уйдут. Так нет, сердце матери не меняется и так же дрожит над ними, как и раньше. Вот младший недавно в Уфу уехал учиться. Старший в Москве, письма пишет, а этот вторую неделю весточки не шлет. Предстоят ему экзамены, он готов к ним, только математики боится. Хорошо, если у профессора, который экзаменовать его будет, тоже дети есть, он тогда поймет и не будет очень строг. А если на злого нападешь, тогда как? А дочка ничего, кончает десятилетку, тоже, должно быть, скоро из дому упорхнет.
В сопровождении Забиры Салих вышел за ворота. Хотелось ему деревню разглядеть — ведь он здесь бывал не раз, когда в кантоне работал, — тут находился волостной центр. Тогда, кроме двух каменных магазинов да трех домов, принадлежащих кулакам, крупных зданий не было. Сейчас над деревней высится красивое здание школы-десятилетки, кроме того, появились больница, ясли, детские сады, гараж, парк, физкультурная площадка, не говоря уже о клубе и кинотеатре. Салих вспомнил здание волисполкома, которое не раз посещал, и стал искать его глазами. Не найдя его, он обратился к Забире:
— Почему я не вижу дома, где помещался волисполком?
— Как же ты можешь его увидеть, если стоишь к нему спиной?
Выяснилось, что дом, в котором живет Хаким, и есть дом, интересующий Салиха; среди других, выросших за это время домов, он стал совсем неприметным.
Хаким, который несколько раз звонил домой и обещал скоро вернуться, пришел, однако, довольно поздно, даже по дороге его останавливали жители — то просьба у кого, то вопрос, то жалоба.
Подойдя к встречавшим его у ворот гостям, Хаким крепко пожал руку Раузе, потрепал по щеке Карима.
— И ты приехал в деревню, городской житель?
С Раузой они давно знакомы, но о том, что она вышла замуж за Салиха, Хаким узнал совсем недавно и сейчас сказал, качая головой:
— Конечно, то обстоятельство, что девушка с берегов Сакмара приехала в наши края, должно было показаться странным, но мы почему-то не обратили на это внимание. Ну ладно, кто старое помянет, тому глаз вон.
Забира позвала всех в дом. Там их встретила полная черноглазая девушка. Это была дочь Хакима Салима. Рауза хорошо знала Салиму- это была ее ученица. А Салих никак не мог ее вспомнить и спросил у Забиры:
— Не она ли болела тогда золотухой и все лежала?
— Она, — ответила Забира. — Теперь смотри, как выровнялась.
Все сели за стол, обильно уставленный угощением. Хаким хозяйственно переставил бутылки, взял одну со стола, поглядел на свет и подмигнул Салиху.
— Это, брат, крепкая, для таких молодых джигитов, как мы с тобой. Хозяйка хоть и не пьет у меня, но думаю, что по такому торжественному случаю пригубит. И Рауза, надеюсь, не откажется, если любит своего мужа, а если не любит, то пить не станет, и нам все сразу станет ясно. А Салима, — кивнул Хаким в сторону дочери, — еще молода, чтобы пробовать такие вещи.
Салима сказала дипломатично:
— Разве гости мне менее дороги, чем вам? Хаким ласково взглянул на дочь.
— Толково ответила, с подходом, и возразить нечем, а, жена?
Забира только махнула рукой.
— А если без шуток говорить, друзья мои, — продолжал Хаким, — подумать только, сколько времени прошло? Были вы юнцами, дерзкими, смелыми, и мы верили в вас, — в наше будущее. Во всей точности не знали мы, каким оно будет выглядеть, но знали, что оно принесет нам радость, нам и нашим детям. И вот оно пришло, это будущее, а ведь оно еще только началось, конца-краю ему нет впереди. Но самое удивительное — это то, что жизнь наша шагает быстрее мечты. Когда же такое бывало? Мечта всегда была где-то впереди, в недосягаемой дали, куда, казалось, никогда человеку не добраться. А сейчас до нее рукой подать! Вот что удивительно. Поэтому я хочу поднять свой стакан за нашу эпоху, которая сделала нас людьми, и за человека, который ведет нас к счастью, за великого друга народов.
— За Сталина! — сказал Салих.
— Да, за Сталина!
Гости поднялись. — В самом деле, — взял слово Салих, — за два часа, которые я пробыл здесь, сколько я увидел перемен! И во всем видно сияние его великих дел.
Под красным шелковым абажуром загорелась электрическая лампа.
— Девять часов, — сказала Забира.
— Я не хотел приглашать больше гостей, — сказал Хаким, — решил, что лучше посидеть нам в тесном кругу, вспомнить старое.
И пошел разговор, полный воспоминаний о людях и делах. Салих знал, что завтра увидит всех, кто его интересует, но все же подробно расспрашивал о них. Конечно, первый вопрос был о Хасане. Он стал ярым мичуринцем, так врос всеми корнями в деревенскую почву, что его оттуда силком не вырвешь. Пробовали было посадить его заведующим районным зем- отделом, но он отбился. Из Москвы на имя секретаря райкома пришло письмо с просьбой не трогать Хасана с места, как делающего опыты по заданию научно-исследовательского института. И вправду, одних помидоров он вырастил двадцать пять сортов.
— В Аккуяне я сам буду и всех увижу. Расскажи о других.
— Кто же тебя интересует?
— Сайфуллин, например, тетушка Бадар из Судбазара, если ты их знаешь.
Оказалось, что Хаким знал в районе всех, кто хоть сколько-нибудь выделялся. Салих удивился такой осведомленности.
— А как же иначе! Хозяин, — с улыбкой объяснил Хаким.
Он рассказал, что Сайфуллин теперь директор МТС, почти расстался со своими партизанскими привычками, засел за учебу, но все же, бывает, они дают себя знать. Рассказал Хаким и про Бадар. Она долго была председателем сельского совета, потом заболела, лежала в больнице, ездила на курорты, вылечилась, но все же здоровьем сильно сдала, и врачи посоветовали ей заняться делом полегче. Теперь работает на молочной ферме. И на этой работе она показала себя — награждена орденом «Знак Почета». Сейчас она депутат Верховного Совета республики.
— Еще хочу тебя спросить, Хаким... Только знаешь ли ты ее?.. Была, если помнишь, у кулака Гиляжа красивая невестка.
— А! Зюхра? Дочь старика Аубакира из Ахмера?
— Да, да, она!
— Неужели она в самом деле была такая красивая? — ревниво спросила Рауза. — Он мне уши прожужжал этой Зюхрой.
— В молодости, должно быть, была красавица, да и сейчас еще очень недурна. Да, жива она, здорова. Алима за разные дела отправили в тюрьму, а Зюхра вернулась к своим родителям, сейчас замужем за хорошим человеком, счастлива, работает в колхозе. Ты вот про Зюхру спрашиваешь, про красавицу, а родным братом не интересуешься...
— Думал я о нем, — смутился Салих.
— А спросить постеснялся? Ничего, твой Фарук в Судбазаре живет, работает на почте, выправляется понемножку, мы за ним смотрим.
— Напоследок спрошу тебя о человеке, к которому больше всех лежало мое сердце. Как живет Халькес-бабай? — спросил Салих.
Хаким с женой переглянулись. Салима хотела что-то сказать, но Хаким остановил ее жестом руки.
— Я сам, — сказал он и обратился к Салиху. — Нет в живых твоего Халькеса-бабая, умер старик.
Салих медленно поднялся с места.
— Умер? — произнес он упавшим голосом.
— Да, умер. Месяца два прошло с тех пор. И до последней минуты был верен себе, своему веселому характеру. Помнится, рассказывали мне про него такую историю. Когда Айытбай умер, пришли, как принято, старики прощаться с покойником, и Халькес-бабай заглянул. Прочел мулла перед покойником заупокойный намаз, повернулся к народу и спросил по обычаю: «Какой был человек покойник?» И люди, чтоб облегчить положение души мертвого перед всевышним, по обычаю же ответили хором: «Хороший был человек! Отличный!» Один Халькес ничего не сказал, а только громко кашлянул в ответ. Мулла сурово взглянул на Халькеса: «Ты не согласен с народом?» — спросил он; Халькес пожал плечами. «Дурного про покойного говорить не буду, — произнес он, кивнув подбородком в сторону мертвого, — пальцем показывать в таких случаях не положено, — да и хорошего сказать не могу». — «Шутишь все, обычаи нарушаешь, — зло заметил мулла. — Смотри, старик, и твоя смерть не за горами, не до шуток тогда будет».
Ошибся мулла, — когда пришлось умирать Халькесу, шутил он, пожалуй, больше обычного. Позвал жену, сына с невесткой и сказал, что не сегодня-завтра ангел смерти Азраил наведается к нему, что надо успеть поговорить перед расставанием. Бикбулат всполошился, собрался было ехать за врачом, но старик приказал ему сесть на место. «Врач тут уже не поможет, сынок, — сказал он, — еще не найдено лекарство против старости. Изготовят его когда-нибудь обязательно! Дойдут и до этого люди, только я уж не дождусь. Ошибки в том, что умираю, нет. Восемьдесят пять лет — это, скажу вам, друзья мои, не первая молодость. Ошибка в том, что родился я рано. Надо бы родиться поближе к вашему времени. Но родители, да будет им на том свете сладко, не предусмотрели. Ты чего плачешь, старуха? — повернулся он к жене. — Я ведь тебя с собой не беру. Ты еще останешься и, конечно, как только я умру, муллу позовешь. Без муллы тут не обойдешься. Он нужен для твоего успокоения, а не для моего, так и быть, приглашай. Только фидии за молитву большой не давай, сунь ему старый мой чекмень, хватит с него! А если, чего доброго, овцу потребует, не давай, скажи — старик Халькес за словом в карман не полезет и сам за себя постоит на том свете... Все плачешь! Эх, ты! А я заставлял тебя лошадиный хвост держать. Неуклюже шутил, правду сказать, но ты не обижайся, старушка, я это любя».
Старик помолчал, затем приказал принести ему свежей воды из источника у Тополиного склона, похвалил воду и продолжал: «Вы, детки, — обратился он к сыну и невестке, — живите дружно, уступайте друг дружке, это главное в семейной жизни; уступайте, когда надо, а когда не надо, то, пожалуй, и не уступайте. Будь хорошей женой, Зульхиза, ио не только об этом думай, а то в бабу превратишься, как твоя мать и мать твоей матери. Не отставай от Бикбулата, он ведь все вперед шагает, не оглядывается, а ты за ним. Если даже чуть перегонишь его, не беда: подзадоришь его, чтоб не загордился директор!
На прощание старик снова попросил воды, пил ее не спеша, наслаждаясь каждым глотком. «Хорошая вода! Сладкая, — сказал он. — Восемьдесят с лишком лет пью ее, и все кажется она мне слаще и слаще. Жалко расставаться с ней!» Допил старик свой тустак ’, повернулся к стене и заснул, а ночью умер.
Хаким закончил свой рассказ. Все молчали.
— Выпьем в память, о нем! — произнес он.
— Много значил для меня старый кузнец, — сказал Салих. — Тяжело у тебя на душе, трудно, разные ведь бывали времена, а пойдешь к нему — и легче станет, веселее. Был он спокойный, ясный, веселый, вселял в сердце бодрость и веру. Как наш народ.
Когда все легли, Хаким и Салих еще долго не могли уснуть — они лежали в разных комнатах и, открыв дверь, разговаривали до утра.
2 Знакомые поля! Вот уже виднеется Тополиный склон. Салих прежде как-то не задавался вопросом, почему его так назвали, а сейчас, подъезжая к родным местам, задумался: почему, в самом деле, Тополиный склон?
1 Тустак — большая деревянная чаша. Берег реки усеян мелким тальником и ивняком, выше он зарос редким кустарником — зайцу и тому здесь негде укрыться. Быть может, какая-нибудь легенда связана с этим названием? Надо бы докопаться! — подумал Салих. У самого подножья склона забелели камни, — казалось, кто-то нарочно навалил их один на другой.
— Помнишь? — обратилась к Салиху Рауза. — Там холодный родник. До чего вкусная вода, слаще любого вина!
— Как не помнить! Старухи всегда ее хвалят, говорят, что в ней хорошо заваривается чай. Халькес-бабай перед смертью ее пил.
Салих, Рауза и Карим медленно едут, поднимаясь вверх по Тополиному склону. Правит лошадью мальчик лет двенадцати, весьма гордый данным ему поручением. Хаким предложил Салиху машину, но Салих отказался. Что увидишь, проехав на машине? Промчишься стрелой, и все, что тебе дорого и близко, ради чего приехал, о чем вспоминал, лишь промелькнет мимо тебя. И Салих попросил дать ему тарантас, для того чтобы не спеша рассмотреть родные места, насладиться радостью этой встречи.
Вот и знакомое озеро с вечной рябью на поверхности воды. Черная рама камыша, словно нарочно с этой целью посаженного, красиво окаймляет его. Сколько раз приходил сюда Салих с другими ребятишками во время уборки — собирать камыш, чтобы вязать им снопы. Корень у камыша не крепкий, и вырвать его из болотистого дна нетрудно, но острые стебли больно режут пальцы. А все-таки тащишь его, проклятый, не сдаешься. Целый день ходишь по колено в болоте и доходишься бывало до того, что губы посинеют от холода и лихорадка проймет.
Иными глазами глядел сейчас Салих на озеро, лучше и глубже оценил его красоту. В одной части поверхность озера синевато-черная, в другой — бледно-голубая. В темной половине волны перекатываются крупно, а в светлой чуть заметно: одна половина лица у озера сердитая, а другая улыбается. Салих улыбнулся своему сравнению и подумал: «Почему такое удивительное озеро не имеет названия? Надо бы дать ему имя — и покрасивее».
Карим и маленький возница, которого звали Миртимер, успели подружиться, а так как у них не было воспоминаний, то они больше интересовались друг другом.
— Подгони коня, — подзадоривал Карим возницу, — что он идет шагом! Скучно так, пускай побежит.
— Конь не побежит, а поскачет. Бегает только курица *.
— Разве курицу запрягают?
— Случалось, что запрягали. Об этом и в песне поется.
И мальчик запел:
Раньше было тесно нам На широких улицах, Когда в лапоть мы с дружком Запрягали курицу.
Последние две строчки песни подхватил Салих — певал он ее когда-то! И, охваченный 1 У башкир и татар не говорят: «лошадь бежит». воспоминаниями, прочитал отрывок из стихотворения Тукая:
Хоть с самого малолетства с тобой разлучился я, Вернулся я, Заказанье, в твои и в свои края.
— Это и про меня написано, дети, — сказал Салих. — Природа, какой она была тринадцать лет назад, такой и осталась. Только берега, которые в детстве казались мне высокими, сейчас стали ниже, а река, прежде широкая, сейчас кажется узкой. А, может, они в самом деле такими и были, а я заметил это лишь сейчас, после того, как повидал другие реки и берега.
Дети слушали молча, не понимая, что хочет сказать Салих, только Рауза улыбнулась.
— Конечно... — согласилась она.
— Через двадцать минут я буду в родном Аккуяне, и даже трудно сказать, до чего волнуюсь. Всех ли увижу, а кого увижу, узнаю ли?
Детям наскучило молчать, и Миртимер запел частушку:
Фазулла был маленький, А сейчас удаленький.
— Замечаю я, парень, что ты очень любишь говорить стихами. По всему видно, когда вырастешь, фольклористом станешь. А частушку сложили, видно, ради кафии?
— Жену Фазуллы зовут не Кафия, а Гайния.
— Я не про жену говорю. Прежде кафией называли рифму. Ты должен знать, что такое рифма. В какой класс перешел?
— В шестой, — ответил Миртимер, приняв серьезный вид, и отчеканил: — Рифмой называется созвучие в строках последних слов стиха.
— Знаешь! — похвалил Салих.
— Раньше пели для рифмы, а сейчас поют не только поэтому. Фазулла-агай лучший комбайнер, на весь район прославился. В самой Уфе в газете о нем писали. Вы не читали? Он успевает и в нашем колхозе хлеб убрать и еще в соседнем.
— Постой, постой! Как мне не знать Фа- зуллу! Подумай только, Рауза, — повернулся Салих к жене, — я помню Фазуллу вот таким — нос, похожий на клюв птицы, живот торчит, рубашка грязная, — а сейчас о нем песню поют.
— А каков он ростом? Всегда был маленьким, меньше всех.
— Фазулла-то? — Миртимер обиженно повел плечами. — Во всем районе нет человека выше его.
— Та-ак! — протянул Салих. — Видишь, как оно получается. Гора казалась когда-то большой, а в действительности была маленькой, человек казался маленьким, а выяснилось, что он большой.
Салих спросил про Ташбулата.
— Ташбулат-бабай? Весной приезжал в наш колхоз проверять итоги социалистического соревнования. Дошлый старик, даже в погреба лазил: «Должен, говорит, я знать, с кем дело имею».
Удивился Салих: чтоб робкий, скрытный Ташбулат проявил такой хозяйский норов, — чудеса!
Тополиный склон остался позади, и лошадь вышла на дорогу, ровную и гладкую, как сковорода. По обеим сторонам дороги раскинулись бескрайние поля пшеницы. Салих вспомнил, что здесь редко бывал урожай, только унылый ковыль стлался под ветром. А сейчас крупные колосья пшеницы шуршат на ветру, как бы рассказывая Салиху и Раузе о богатстве колхоза. В стороне показался полевой стан — оттуда доносится шум веялки и триера. По недавно проложенной дороге к стану подошли две трехтонки. Люди встретили их радостными возгласами. Какой-то старик, приложив ладонь к глазам для защиты от солнца, внимательным взглядом проводил тарантас с Салихом и Раузой.
— Вон Ташбулат-бабай! — указал на старика Миртимер.
— Неужели?! — воскликнул Салих и чуть не соскочил на ходу с тарантаса, Рауза удержала его за полу пиджака.
— Успеешь!
— Смотрите, — показал Салих на оставшуюся позади фигуру старика. — Как стоит! Гордо! Словно Урал-батыр из сказки! Вот кто в первую очередь просится на полотно.
Салих не заметил, как тарантас застучал по булыжнику, — въехали в деревню. Если бы его спустили сюда на парашюте, предварительно завязав глаза, он ни за что не признал бы, что попал в Аккуян. Знакомых избушек не было видно, появились новые дома — перед ними сады, улицы обсажены тополями и кленами, в середине села высится двухэтажное здание школы. Когда Миртимер остановил лошадь перед домом с железной крышей, оттуда вы-бежала старуха, и без слов взяла с тарантаса чемодан и понесла в дом.
— Здравствуй, матушка Гульсибер, — сказала Рауза.
Но мать Хасана, видимо, не узнала ее.
— Здравствуйте, здравствуйте, — сказала она механически.
Гости зашли в дом. Здесь ничего не было деревенского, если не считать полосатого са- мотканиого ковра, покрывавшего сундук. Стоял письменный стол, комод, шкаф, буфет, этажерка с книгами.
— Видно, не узнали вы меня, — сказала Рауза. — Я Рауза, а это Салих.
Гульсибер даже переменилась в лице.
— Салих! — воскликнула она и, обняв его, так и стояла с минуту.
Затем, вытирая глаза, погладила Карима.
— Это твой сын, Салихджан? Как его зовут?
— Карим.
— Макарим? Очень хорошее имя. Дай я тебя раздену, Макарим, сынок.
— Я, бабушка, не Макарим, а Карим.
— Ну и хорошо, расти счастливый и умный. Моих сейчас дома нет. Миньямал у пас теперь председателем в Совете, уехала в поле, и Хасан там — время-то горячее. Сейчас поставлю самовар. Карим, сынок, ты человек маленький, проголодался, должно быть, бедняжка? Вот садись, покушай сметаны. Скоро внучата мои прибегут, издалека слышно будет, шалуны, не дай бог!
— У вас их четверо? — спросил Салих.
— Четверо, как же! К осени, если бог даст, и пятый будет. Все, как один, шалуны, на не- 396вестку похожи, не в сына. Хасан у меня спокойный, молчаливый.
Но когда вошли двое мальчиков и стали как вкопанные, увидев незнакомых людей, Салих нашел, что они похожи не только на Миньямал. Пытливый взгляд, которым они рассматривали приезжих, желая понять, кто они, живо напомнил Салиху Хасана. Дети недолго оставались дома, они взяли по огурцу и убежали играть, захватив с собой и Карима.
— Стара я стала, — пожаловалась Гуль- сибер. — Еще недавно ходила на колхозную работу, а сейчас не хожу. Разве с такими озорниками управишься! Отец с матерью целыми днями домой не заглянут, пообедать и то им некогда. Хорошо, иной раз соседка придет поможет. Глаза мои совсем ослабели. Очки, правда, сын купил, да как их носить, когда ходишь! За рукодельем, конечно, хорошо, ничего не скажешь. А то вот я картошку рыла и потеряла, спасибо ребята нашли. И ноги сдают. Возили меня в районную больницу, опускали в «электрик», полегчало, но в дождливую погоду все равно побаливают. Ой, — воскликнула она, схватившись за голову, — верно говорят, память собака съела, про самовар- то я и забыла...
— Давайте я помогу, — отозвалась Рауза.
— Да разве можно позволить гостье самовар ставить! — возмутилась старуха. — Упаси боже!
Рауза все же последовала за Гульсибер. Оставшись один, Салих подошел к этажерке и стал рассматривать книги; тут была политическая и специальная литература — по агрономии, ботанике, огородничеству, многие места в книгах были подчеркнуты, на полях сделаны пометки. Салих с интересом просматривал их и таким образом как бы вновь знакомился с Хасаном, каким он стал сейчас, много лет спустя. Выйдя во двор, Салих обратил внимание на огород и сад — в них было много различных грядок, кустов. «Опыты», — догадался Салих и с уважением стал рассматривать растения. «Почему он ничего не писал мне об этом? — подумал он с некоторой обидой. — Неужели считал, что художник витает в облаках и ему нет дела до земли и ее плодов?» 3 За чаем старуха Гульсибер совсем размякла, вспомнила молодость, мать Салиха.
— Уважала меня покойная Хупьямал! С тех пор, как я в эту деревню невесткой приехала, часто мы с ней встречались. Тяжела была доля молодой женщины в наше время. Не то что теперь. Вот нынешней весной женил Ла- тый второго сына, невестку взяли из деревни Каенсар, два дня свадьбу играли, а на третий выходит она на сцену клуба и речь говорит о майском празднике. Совсем не смущается, всем прямо в глаза глядит, вот какая! Напротив родители ее мужа сидят, и она им говорит «товарищи». Чудеса! В мое время мы, бедняжки, даже когда за водой ходили, шалью лицо закрывали, — упаси бог, встретится кто.
— Жалеешь, видно, матушка, что с речью тогда не выступила? — пошутил Салих.
— Э-э! — только махнула рукой Гульсибер. — В те времена не то что женщина, мужчина не умел путного слова сказать. Соберутся бывало на сходку и давай орать, никто никого не слушает, каждый старается другого перекричать. Потом переругаются, а то и передерутся — и по домам! Вот какие бывали у нас собрания, детки. А нам, женщинам, даже смотреть в ту сторону не дозволялось. А ты говоришь — речь!
— Зато Рауза у нас насчет этого дела мастерица, — шутливо продолжал Салих. — Попросим ее доклад сделать!
Рауза была немного задета этим, как ей показалось, тоном снисходительности.
— Я, товарищ Ягфаров, — сказала она, покачивая при этом головой, — немало здесь сделала докладов и произнесла речей. Если вы там боролись против кубизма и футуризма, то мы боролись против оппортунизма. Не так ли, матушка Гульсибер?
— Так, дочка, так.
После чая Салих вышел на улицу. Стало прохладнее, повеяло сыростью, предвещавшей дождь. У дома Хасана собралась молодежь, узнавшая о приезде Салиха Ягфарова. Глядя на молодых ребят, Салих подумал, что встречается одновременно и с детьми и с отцами — можно было бы назвать каждого наугад по фамилии и не ошибиться. На миг Салиху показалось, что он вернулся в свое детство и что он, не известный художник, а безвестный мальчик Салих, стоит среди своих сверстников.
Салих подошел к мальчику с носом, похожим на клюв птицы, и, протянув руку, сказал:
— Здравствуй, Фазулла, сынок!
Все засмеялись. Сходство, в самом деле, было удивительно.
— Снял шкуру с отца да натянул на себя, — сказал кто-то.
Подошел человек, и Салих сразу узнал Ташбулата. Он сильно постарел, прежде черные, как смола, усы — его краса и гордость — изрядно побелели, но все же сохраняли свой бравый вид, заостренные кончики их по-прежнему устремлялись вверх.
Они обнялись и, поздоровавшись, молча разглядывали друг друга.
— А вы, Ташбулат-агай, все еще не сдаетесь, судя по усам!
— А как же иначе! Жизнь мне нравится, и я ей нравлюсь, мы не собираемся друг с другом расставаться.
— Как ваш фундамент, Ташбулат-агай?
— Какой фундамент? Не пойму я, о чем ты спрашиваешь?
— Я спрашиваю о вашем доме: там ли он стоит, где стоял?
Салих знал еще по письму, что у старика новый дом и на новом месте.
Ташбулат замялся: не хотелось ему, чтоб молодежь, обступившая их, узнала его тайну.
— Знаю, к чему ты ведешь. Да не здесь об этом разговаривать. Не дай бог, эти ребята пронюхают-не сдобровать мне. Знаешь, как они меня называют? «Старик-комсомолец» — вот как! Я с этим очень считаюсь. Боюсь подорвать свой авторитет.
Слово «авторитет» он произнес с напряжением, но все же одолел это трудное слово.
— Если ты, Салих, их не знаешь, то я — то уж знаю: возьмут да и протащат меня в стенгазете, — добавил Ташбулат.
Кудрявая девушка неожиданно вмешалась в разговор.
— Нехорошо так говорить, — сверкнула она черными глазами. — Когда мы о вас что плохое писали, Ташбулат-бабай?
Ташбулат ничего не ответил ей, только подмигнул Салиху и спросил:
— Старого Хушкая помнишь? Был у него сын Дусмет. Оба не умели расписываться. А в прежние времена у каждого была своя тамга — рисунок такой: у тебя, скажем, топор, у меня вилы, у кого грабли, — их рисовали вместо подписи. А у Хушкая был молоток. Только рисовать, как надо, он не умел, и вместо молотка часто получалось что-то вроде креста. Однажды собирали подписи на послание к муфтию с просьбой прислать муллу. Старик Хушкай нарисовал свой молоток и вышел, как обычно, крест, а бумага гладкая, гербовая, с марками. Люди оторопели. «Как? — спрашивают. — Ты попа, что ли, требуешь?» Так вот, гляди на нее, она и есть дочь Дусмета, внучка Хушкая Фаузия Хушкаева.
— Ну, она, надеюсь, хорошо накладывает тамгу?
— Она, знаешь, кто? Ответственный редактор стенгазеты «За урожай». Она, лиса, потому и вмешалась в разговор, чтоб понятно было, кто редактор. И заметки она пишет, и частушки сочиняет. А насчет фундамента скажу, как говаривал Садык: «Ни гу-гу!» Завтра твоя тетушка Сабира ждет тебя в гости, обо всем поговорим. Пока скажу одно: видишь дом под железной крышей, вон над ней скворешня торчит, — это мой дом. И в том доме мебель есть и все прочее, как у людей. И радио есть. Сейчас вот, например, слышал, будто этот злодей Гитлер солдат своих в Финляндию привозит и будто бы Англия с Америкой помехи чинить ему не станут. Это о таких, наверное, говорят: «Ворон ворону глаз не выклюет».
4 Куда ни глянешь — бескрайняя, ровная степь. На десятки километров все видно вокруг. Каждое строение, каждый кустик — как на ладони. Вон комбайн — он как будто совсем приближается к тебе, а на самом деле до него надо еще идти и идти. Дальше, у реки, видны белые строения.
— Что это? — спрашивает Салих.
Они с Хасаном стоят посреди степи.
— Возле лесочка? МТС, — отвечает Хасан.
— Нет, я спрашиваю вон про те белые здания.
— Наша ферма.
— У тебя все еще глаз степного человека, — сказал Салих с легкой завистью. — Казах спрашивает у казаха, далеко ли до деревни, а деревня за тридцать километров. Ему отвечают: «Вон, гляди, — рядом».
С раннего утра Хасан и Салих бродят по знакомым местам. Вон на том холме потеряли они когда-то перочинный ножик, а в той ложбинке встретили барсука. Салих расспрашивает Хасана о его мичуринских опытах.
Хасану было приятно это внимание. И, пожалуй, этот интерес Салиха к его делам больше, чем воспоминания юности, снова связал их нитями дружбы. Стоило Салиху заикнуться на этот счет, как у Хасана разгорелись глаза, — он мог говорить на эту тему без устали.
— Вот ты сказал про степь, что в степи глаз устремляется во все стороны, не встречая препятствий. Да, мы с тобой степные башкиры и любим степь. Тут одна наша старуха ездила В Бурзян, в гости к дочке. Недели не прожила, вернулась обратно. «Не могу, говорит. Горы и леса грудь мою давят, нет простора моему глазу». А я скажу тебе — без лесов мы здесь пропадем. Засуха душит нас, потому что леса нет.
— А пшеница у вас хорошая, зря ты говоришь. Ехал я сюда, видел. Разве прежде мы такую знали? — заметил Салих.
— Конечно, удобрения, вспашка немало значат. Но разве это та пшеница, о которой мы мечтаем?! Дай сюда постоянную влагу — и ты увидишь, что такое пшеница. А кроме того, в этом году дождь, к счастью, выпал, а в другие годы как быть? Хватит нам зависеть от господа бога! Вот когда наши поля покроются густыми лесами, засуха уйдет с позором и придет вечный урожай. И мы это сделаем, рано или поздно.
— И тогда твоя старуха полюбит Бурзян...
— Ты не шути, — Хасан был недоволен, что его прервали.
— Я не шучу, я говорю всерьез.
— Ты замечаешь, Салих, чего нет сейчас в поле? Помнишь, когда мы выходили в поле, чья песня раздавалась?
— Жаворонка.
— Жаворонки и теперь поют.
— Кулик?
— И кулик есть. Да ты не поднимайся к небесам, спустись ближе к земле.
— Перепелка?
— Перепелка и сейчас бегает. Неужели ты забыл Гимрана Юмранова ’?
Салих от души рассмеялся.
— Как же не помнить. Мы, комсомольцы, устраивали целые облавы на сусликов. Газеты были полны призывов: «На борьбу с сусликами».
— И мы их действительно уничтожили. Сколько их было — уму непостижимо! А теперь учителя рассказывают детям о сусликах по рисункам. Помнишь, как наши башкиры не умели и не хотели сажать картофель, а теперь какие только культуры не выращивают! Придет время, мы возьмем в работу небо — потребуем от него влаги не тогда, когда ему заблагорассудится, а когда нам нужно. Не могу забыть, как мы, ребята, бегали, засучив штаны, по улице и кричали: «Дождик, дождик, лей, лей!» — вымаливали дождь у бога. Я к чему все это тебе говорю? К тому, что начинается великое наступление на природу, и мы, большевики, должны возглавить его.
Хасан стоял среди поля, широко расставив ноги, расстегнутый ворот рубахи обнажал его сильную шею. Салих залюбовался им: «Вот он, колхозный ученый, — думал Салих, — есть о чем тут сказать художнику, хватило бы уменья и таланта».
На горизонте показалась черная точка, которая с каждой минутой увеличивалась. Хасан и Салих обратили на нее внимание.
— Мотоцикл? — сказал Салих.
— Нет, это лошадь, — Хасан продолжал 1 Так Хасан шутливо называет суслика, вроде «Су- сел Сусликов». Юмран — по-башкирски- суслик. вглядываться. — Да это же наши, Миньямал и Рауза.
Сейчас и Салих стал различать очертания бегущей лошади.
— Погоди, я уже различаю их и еще кого-то третьего.
Время было горячее, колхозники сдавали хлеб государству, и Миньямал все время приходилось бывать в разъездах: то в поле, то на элеваторе, то в районном центре. С Раузой она и двумя словами не успела перекинуться, а поговорить хотелось о многом. Тогда она решила взять ее с собой в поездку, чему та была очень рада.
Когда тарантас подъехал ближе, Салих в самом деле увидел в нем Раузу и Миньямал. Третьим оказался учитель Гильман. Узнав его, Салих бегом кинулся навстречу тарантасу. Совсем белым стал старый учитель; волосы, борода, усы — все покрылось снегом старости. Он обнял Салиха и заплакал.
— Постарел я, браток, постарел, — сказал Гильман. — Как-никак мне теперь восемьдесят. Слыхано ли дело, чтоб учитель, да еще такой хальфа, как я, достигал восьмидесяти лет! А ведь это еще не конец. Нет, не конец, как хочешь. Еду я из Крыма, из Хорошана, курорта для учителей. Может быть, скажут, стыдно в такие годы по курортам разъезжать. А я не стыжусь. Заезжал в Москву, был в мавзолее Ленина. Ехал я и думал: велика наша страна, богата, так и хочется жить. И правда, умри я в прошлом году, в этом тебя бы не увидел.
В тарантасе все уместиться не могли, и после недолгих препирательств, по настоянию Гильмана, Миньямал и Хасан, как люди заня1 тые, сели в тарантас, а Гильман в сопровождении Раузы и Салиха решил дойти до деревни пешком.
— Мой чемодан домой забросьте, только пусть там без меня его не открывают: везу подарки детям, хочу сам видеть их довольные улыбки.
Учителя уговаривали ехать на тарантасе, но он отказался.
Не спеша они пошли по дороге. Рауза и Салих поддерживали Гильмана, который совсем расчувствовался.
— Спасибо тебе, дружок, за поздравительную телеграмму, когда я орден получил. Очень меня ты обрадовал: помнишь, значит. А я тебя никогда не забывал. Помнишь, как ты для меня, то есть не для меня, а для школы, когда к нам впервые театр приехал, серп и молот нарисовал?..
Салих вспомнил этот давно забытый случай и обрадовался, как человек, вытащивший из глубокого колодца драгоценный камень.
— Этот рисунок до сих пор у меня хранится, — продолжал Гильман. — Это ведь был твой первый шаг художника. И я горжусь тем, что тогда обратил на него внимание.
— Да, Гильман-агай, пожалуй, этот первый шаг был важнее того, который я делал, опираясь на нары, когда меня мать держала сзади за рубашку.
Рауза заметила:
— Трудно себе представить, как ты делал свой первый рисунок, но как ты ползал, вижу, словно это происходит сейчас. Порой даже кажется, судя по некоторым твоим поступкам, что это происходило совсем недавно.
Все рассмеялись.
5 Старик Ташбулат дожидался гостей у ворот. Он был в новой рубашке и новом пальто, накинутом на плечи. Борода и усы были расчесаны и ради торжественного случая обрызганы одеколоном. Когда Салих и Рауза вошли во двор, из дома выбежала Сабира и, поздоровавшись с Салихом, увела с собой Раузу. Старик не хотел почему-то сразу вести Салиха в дом и направился с ним в маленький, окруженный низкой зеленой изгородью сад. В саду были посажены кусты малины и смородины и стояло несколько ульев. Прислушавшись к ним, можно было уловить тихое жужжанье, похожее на шум закипающего самовара. Ташбулат окинул взглядом садик, корову, двор, только что перед приходом гостей начисто выметенный, и сказал с улыбкой:
— Вот мой маленький мир!
Салих вспомнил прежнюю нищету Ташбу- лата и понял, что для старика много значат и дом с железной крышей, и собственная корова, и даже маленький садик, но все же спросил:
— А где твой большой мир, Ташбулат- агай?
— Большой? -переспросил Ташбулат и ответил без слов, показав рукой на деревню. Он еще выше поднял голову, будто хотел охватить взглядом всю страну. — Я понимаю, о чем ты спрашиваешь. Я думаю так же, как ты. Мое личное хозяйство — это для веселья души. Кто знает, может быть, когда-нибудь будем обходиться без собственной коровы и без собственных ульев. Но отказываться от них пока не собираюсь, и все же они напоминают мне время, когда я был одинок. А я хочу забыть об единоличном хозяйстве. Вот ты, когда приехал, спросил меня о фундаменте, я промолчал тогда, а сейчас, без свидетелей, расскажу.
Я все-таки переселился на другое место, поставил свой дом на новый фундамент — последний мой грош ушел на это дело. Ты, конечно, спросишь, что было дальше. Плохо было дальше, как нельзя хуже. Купил я жеребенка, думал вырастить из него доброго коня. Но оттого, что я часто запрягал его, он отощал, опаршивел, его не пустили в табун, он пасся одиноко в районе Мамбатэ, и там его загрыз волк. На другую весну я продал женин елэн, купил немножко проса, но засеял поздно, потому что батрачил у бая, и осенью мой урожай погиб от заморозков. Как видишь, не принес мне счастья новый фундамент.
Как раз тогда стал народ объединяться в колхозы. Я, грешным делом, в стороне стоял, прислушивался к тому, что болтает вражий язык. А колхозники, между тем, получили ссуду от государства, целину подняли, засеяли ее. Год выдался плохой, а у них урожай хоть и небогатый, а лучше, чем у других, — поработали они дружно. Тут Сабира насела на меня, и сам я задумался всерьез. Наша народная власть указала выход из тяжелой крестьянской жизни, думал я. Чего же я на месте топчусь?
В том году, когда я записался в колхоз, купили мы сообща маленький трактор на колесах. Теперь паши ребята смеются, когда им рассказываешь об этом. «Разве, говорят, на колесах трактор? Разве сова птица?» Конечно, куда ему, бедняжке, тягаться с нынешними богатырями, но в то время мы над ним не смеялись, мы им гордились. Постепенно появились у нас молотилки, самоскидки, триер. Приобрели мы пятерку быков. И пошло дело. А теперь нас называют миллионерами. Подумай-ка, выговори-ка: миллионер! А прежде во всем нашем бедняцком роде не слышно было не только про миллионера, но и про сотейника.
Речь Ташбулата прервала маленькая черноглазая девочка. Она выбежала из дома и закричала пронзительным голосом, словно тот, к кому она обращалась, находился, по крайней мере, за полкилометра:
— Дедушка! Ужинать!
— Ах, чтоб тебя! — сердито замахал руками Ташбулат, словно отгонял пчелу.
Все же тонкий голосок девочки прозвучал для него как колокольчик в руках председателя собрания, предупреждающего оратора, что время его истекло и пора «закругляться».
— А теперь, спрашивается, вывод какой? — продложал Ташбулат, когда девочка убежала. — Вывод простой, хоть и не сразу дался. Дело, конечно, было в фундаменте, да только не в том, за который я бился, а в фундаменте для всего нашего народа. Уничтожили мы тогда старый фундамент и построили новый, социалистический. Отсюда все наши достижения и зажиточная жизнь. Вот как! А теперь пойдем к столу. Тетушка твоя Сабира сегодня постаралась. Поужинаем мы с тобой на славу. САГИТ АГИШ Замечательный мастер короткого рассказа, автор многих популярных повестей и романа «Фундамент» Сагит Ишмухаметович Агишев (1905-1973) родился в деревне Исянгильдино Оренбургской области. Начальное образование получил в своей деревне, затем учился в медресе «Хусаиния» в Оренбурге, Башкирском педагогическом техникуме. В 1924 году он переезжает в Уфу. Работает секретарем редакции газеты «Башкортостан йэштэре», обучается на вечернем отделении Башгоспед- института. Затем робатает в Серменевском, Давлеканов- ском педагогических училищах, Башкирском институте усовершенствования учителей. В годы Великой Отечественной войны учительствует в Саитбабинской средней школе. В 1943 году возвращается в Уфу и работает в управлении по делам искусств при Совете Министров БАССР, консультантом в Союзе писателей, редактирует журнал «Э§эби Башкортостан» (ныне «Агидель»).
За заслуги в области советской литературы С. Агиш был награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак почета».
Первое стихотворение С. Агиша «В ауле буря» было напечатано в 1925 году. В 1927 году вышел первый сборник стихотворений «Наш смех». Сборник юмористических и сатирических рассказов «Приспособляясь к условиям» (1933) явился вехой в творческом поиске пп сателя. Отныне он успешно стал работать в прозе и издал десятки книг.
Во многих рассказах С. Агиша в тридцатые годы отразился процесс формирования нового человека, развитие этого процесса вместе с большими социальными изменениями, происходившими в жизни.
С. Агиш своим умением уловить социально-психологические черты тридцатых годов углубил содержание башкирского рассказа, обогатил его художественные приемы, а сатирическую литературу новыми темами, новыми типами. Скажем, если до него в башкирской сатире высмеивание религии, разоблачение перед народом ее социальной сути было главной темой, то он критиковал подхалимов, лодырей, разоблачал пережитки старого, классовых врагов, которые мешали социалистическому строительству.
В развитии повести тридцатых годов в отношении создания сатирических типов большое место занимают произведения С. Агиша «Приспособляясь к условиям» (1932), «Махмутов» (1939). В первой из них автор показывает антисоветскую деятельность бывшего муллы Саяха, его стремление приспособиться к местным условиям, быть похожим на других, чтобы скрыть свое истинное лицо.
Повесть «Махмутов» отличается от вышеупомянутой тем, что здесь центральный образ произведения — беспредельно преданный советской власти молодой человек — комсомолец Салих. Салих Махмутов, временно устроившийся в один из магазинов города «мальчиком», попадает в среду мещан — спекулянтов, недобитых буржуев, врагов нового строя. Автор достаточно выпукло высвечивает этот мирок темноты и гниения, разоблачает носителей старой, гнилой морали.
Рассказы С. Агиша, написанные в годы войны, были посвящены показу самоотверженного труда людей в тылу.
Осваивая темы, связанные с прошлым, С. Агиш всегда ощущал дыхание своего времени, не забывал о его требованиях. Поэтому его произведения поднимали самые актуальные проблемы своего времени, на первый план ставили создание образа современника. И в своих рассказах, написанных позднее, писатель оставался верен этим творческим принципам. В таких его рассказах, как «Суфия-ханум», «Асия», «Подарок начинается с порога», показывается моральная чистота советских людей.
В повести «Первые уроки» С. Агиша показан период середины 30-х годов. Но проблемы, поставленные в ней, и сегодня звучат актуально. В центре повести — столкновение между Салимом Даутовым и Ахмером Латыповым, которые по-разному относятся к учебно- воспитательной работе. Доверие к человеку, ответственность за его воспитание, стремление прививать добро посредством добра -вот основной принцип работы Салима Даутова. Первые уроки — первая закалка. В повести чувствуется влияние авторской биографии.
Одним из первых романов послевоенной поры в башкирской литературе является «Фундамент» С. Агиша. В романе отображаются события, которые происходят в конце двадцатых и начале тридцатых годов. Центральный герой — Салих Ягфаров — выходец из простых крестьян, впоследствии становится крупным художником. Писатель тем самым утверждает, что народ, получивший духовную свободу, богат своими потенциальными возможностями. Автор прослеживает становление своих героев, их характера и мировоззрения в сложном жизненном пути, в решительной борьбе против рутины и бюрократизма.
Башкирская интеллигенция рождалась и формировалась в условиях ожесточенной борьбы, которая, смело можно утверждать, имела прямо антагонистический характер, так как на первых порах «образованные» отпрыски буржуазии занимали довольно прочные позиции. Именно этот процесс борьбы и становления национальной интеллигенции из народа показывает С. Агиш.
Название романа «Фундамент» не случайно. Вот что говорит один из героев произведения С. Агиша старик Ташбулат: «... Дело, оно, конечно, всегда было в фундаменте, да не только в фундаменте моего дома, но и всей деревни, и не только — в фундаменте всей жизни, в исчезновении единоличных хозяйств, в создании колхозов».
Эти слова старик говорит много позже, когда Салих через тринадцать лет возвращается в свой родной аул. В романе изображаются события, которые происходят именно в течение этих двух десятков лет. За это время сильно меняются и Ташбулат, и Салих. Судьба часто сводит этих двух людей, столь непохожих друг на друга. Такая встреча происходит почти в каждом повороте сюжета.
В основе романа лежат противоречия социального и национального характера. Автор показывает приход на новую социальную арену молодой башкирской интеллигенции, что стало несомненно новой ступенью в развитии народа вообще. Весь век гнувший свою спину и, кажется, разучившийся шагать прямо, Ташбулат обретает новую, прямую и гордую осанку и походку, и, как выражается один из персонажей романа, «начинает ходить, как Алпамыша» Эпоха, отраженная в романе «Фундамент», примечательна коренными социальными изменениями в истории башкирского народа. В романах, созданных в тридцатые годы, изображаются такие великие события, как революция и гражданская война, завоевание свободы, установление новой власти, то есть становление нового общества; основным содержанием романа «Фундамент» являются социально-экономические преобразования страны и формирование нового человека, гражданина этой страны. Очевидно, что если в первом случае на первый план выходит драматизм быстротекущих и быстросме- няющихся событий, то во втором — длительный процесс формирования человека новой формации.
В романах, созданных в двадцатых-тридцатых пь дах авторы зачастую делали главный нажим на идейную концепцию своего произведения, забывая о художественном воплощении событий в отдельных картинах и эпизодах, в результате чего повествование обретало хроникальный характер. Увлекаемые общим ходом происходящих событий, персонажи в таких произведениях занимают как бы стороннее положение.
В «Фундаменте», напротив, видно явное стремление представить ход истории в виде закономерных процессов ее поступательного движения вперед. Изображение повседневной жизни в ее конкретном проявлении, внимание со стороны писателя к деталям, отдельным сюжетным линиям, связанным с теми или другими персонажами, — все это стало непреложным фактором произведения. В нем особое внимание уделяется проблемам личности и общества, морально-этическим коллизиям.
В «Фундаменте» С. Агиш стремился раскрыть две темы — тему формирования национальной интеллигенции 1 Алпамыша — герой народного сказания.
и тему обновления деревни на социалистических началах. Но в смысле сюжетном эти две темы раскрываются в романе параллельно, порой не соприкасаясь друг с другом, и это привело к композиционной рыхлости произведения. Критика в свое время отмечала этот недостаток романаОб этом позднее писал и сам автор.
Верность народным обычаям обязывает сына сохранить отцовский дом, фундамент его дома, жить в этом доме, или в доме, построенном на фундаменте отцовского дома. Башкиры строго соблюдали этот обычай, ибо это предполагало верность сына роду, его исписанным законам.
Отсюда вырастает и идейно-эстетическая концепция романа С. Агиша «Фундамент». Именно в этом смысле он и народен.
Роман «Фундамент» по своей идейно-художественной концепции является философским осмыслением огромного народного опыта, оценкой социальных и бытовых перемен в жизни страны и народа.
В романе два главных образа: Салих и Ташбулат. Проблему фундамента автор решает именно через эти образы. Разумеется, показ этих двух диаметрально противоположных героев в непосредственной связи с главной темой значительно влияет на стиль повествования, сюжетное действие, образную систему произведения. Если образ Ташбулата дан главным образом в плане психологическом, то Салих — в сфере постоянной деятельности, в поступках и действиях. Люди, окружающие Ташбулата, делятся на два противоположных лагеря. Скажем, Шангарей — спекулянт, Шарип-бай, Айытбай — воры. Они тянут Ташбулата в свою сторону, тогда как Хамит, Бикбулат, Салих пытаются его склонить в другую. Но как бы ни был беден Ташбулат, он считает себя более счастливым человеком, нежели, скажем, вор Айытбай. Однако неудачливое, лишенное всяческого достатка хозяйство нет-нет да и заставляет задумываться Ташбулата, и он живет по принципу «своего горя по горло» и не считает нужным вмешиваться в другие дела. Образ Ташбулата ценён тем, что он отражает определенный тип людей деревни, порожденный социальными условиями жизни того времени.
Да, пока Ташбулат не борец. Но его не назовешь и жалким человеком. Несмотря на все удары и обиды судьбы, он не склоняет своей головы, живет надеждой и верой в будущее. Именно это помогает ему твердо переносить свое одиночество и нужду, делать решительные шаги в жизни. Он все больше разуверяется в основательности фундамента отцов и дедов.
Роман С. Агиша «Фундамент» отражает целую историческую полосу — годы перехода деревни на социалистические рельсы, превращения крестьянина-единоличника в коллективиста, возрождения национальной культуры башкирского народа, формирования кадров творческой интеллигенции.
На русском языке роман выдержал несколько изданий.
Анур ВахитовОглавление Часть первая 5 Часть вторая 169 Часть третья 301 Эпилог 376 Сагит Агиш 410 Сагшп Агиш (Агишев Сагит Ишмухаметович)
ФУНДАМЕНТ РОМАН Редактор Г, Зайцев Художественный редактор А. Астраханцев
Технический редактор л, Файзуллина
Корректоры Л. Исаева, Л. Останина ИБ № 1068 Сдано в набор. 5|IV 1978 г. Подписано к печати 24|V 1978 г.
Формат бумаги УОХЭОЧяг. Бумага тип. № 2.
Условн. печ. л. 15,21. Учетн.-издат. л. 14,84.
Тираж 50000. Заказ № 126.
Цена 1 руб. 10 коп.
Башкирское книжное издательство, Уфа-25, ул. Советская, 18.
Уфимский полиграфкомбинат Управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Совета Министров Б АССР.
Уфа-1, проспект Октября, 2. Цена Уруб. 10 коп.
Newsletter:
теги:



